– А она – в суд, – вздохнула Алла.
– И я – в суд, – весело улыбнулся Олег. – У меня справочка об избиении имеется.
Ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке Иваньшина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему-то была неприятна. Однако она ничего не сказала: не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего – о том вечере.
Никакого суда не случилось: девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваньшина не спрашивала, но то, что какой-то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега – тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом, – но по-женски разговорчивая и по-женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой, насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался:
– Русакова Петра Игнатовича помните?
– Какого Русакова?
– Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик-то пригласил, вот тут-то они и утерлись.
Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваньшина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и – с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.
– Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.
– Деньги будете предлагать?
– Да и деньгами неудобно.
– Точно. – Он кивнул. – Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подрос, рассказали, что принесла меня в сорок пятом фронтовичка. Сдала и – в часть: ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.
– Мамой, говоришь?
Горько усмехнулась Иваньшина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».
Через неделю после выписки вернулась в школу – с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в районо и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным, и только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадной, отнимающей разом все силы – и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать, – сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. – Надо приспосабливаться, терпеть и привыкать».
А так было все, как бывало всегда, только Антонина Иваньшина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам-первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда: Иваньшина умела говорить «нет» со всей жестокостью и непреклонностью офицера-фронтовика. И как ни горько ей становилось порою не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, ровна и почти спокойна.
Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что сталось бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения. Если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной и – Иваньшина постепенно убедилась в этом при всей своей настороженности – искренне считавшие ее таковой.
– Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли. Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры.
– Ну что вы, Антонина Федоровна, – смущалась Алла. – Тогда нам радости убавится, понимаете?
А Олег улыбался:
– Все нормально, как в детдоме: торт, он что? Он – один на всех, и все – на одного. Верно, Алка?
Была еще одна маленькая, чисто женская радость: в кои веки объявился-таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно: даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки и неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям: он не жаловал старого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


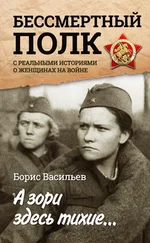








![Борис Васильев - А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы [с комментариями верстальщика]](/books/424400/boris-vasilev-a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-zn-thumb.webp)
