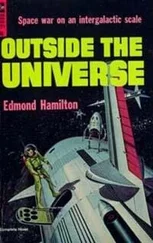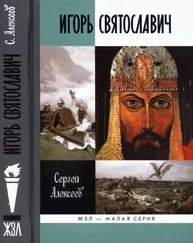Но вот я у цели. Привычно склоняю голову, проходя в низковатую (при моем шестифутовым росте) калитку и оказываюсь перед дверью. Меня уже ждали, как и всегда. Здесь меня, кажется, действительно полюбили – во всяком случае, изо дня в день, на протяжении многих лет встречают с искренним оживлением. Ловкие женские пальчики бесшумно принимают мой пиджак; собаку отправляют во внутренний дворик; так для нее извечно припасена косточка. Будучи усаженным в мягкое скрипучее кресло, я становлюсь участником неторопливой салонной беседы.
– Сегодняшний ветер довольно свеж…
– Да, – неторопливо соглашаюсь я, отпивая глоток из бокала с молодым вином, и перекатывая по небу его кислинку, – во всяком случае, удивляться не придется, если к вечеру соберется дождь.
Со мной никто и не собирается спорить, и я не спеша завладеваю расслабленной нитью разговора:
– Отличное вино. Прошлогоднего урожая? – и вновь делаю глоток.
– Да, – отвечают мне, – тогда все переживали, что виноград побьет градом… Но к счастью, все обошлось. Не без кислинки, но приятное, не правда ли? – голос, отвечающий мне, свеж и игрив, как и молодое вино в моем бокале. Ему вторит более густой, выдержанных оттенков:
– Вы не откажетесь сегодня отобедать с нами?
Так проходят мои дни, и меня очень устраивает, что они проходят именно так. Надо мной подтрунивают – в наше время вести салонные беседы с женщинами известной профессии в захолустном борделе – слишком непозволительная блажь для родовитого наследника огромного состояния, коим мне приходится являться. Мой поверенный неоднократно намекал мне, что я своим поведением ставлю в неловкое положение уважаемую семью. Мои родственники (и они же, прошу отметить, наследники) непременно желают показаться мне на глаза – поэтому и настаивают со все более возрастающим нетерпением на моей операции. Каждый рассчитывает урвать свою долю – что ж, это вполне объяснимо. Но никто почему-то не может объяснить мне, что, собственно, даст мне прозрение, кроме сонма обременительных хлопот? По крайней мере, сейчас я живу как хочу, и дружу, с кем мне заблагорассудится. Все изменится, едва я смогу видеть. Я стану другим – я говорю это с горечью, и с уверенностью; избежать этого никак не удастся. Я должен буду измениться. Я должен буду – и днем, и ночью – видеть все это. А я не хочу – вот что тут со мной поделаешь?… Проклятье, никто не может дать мне гарантий, что мне понравится видеть этот мир – и в этом чертова загвоздка! Я не строю иллюзий в отношении своих родственников – их повадки я давно уже изучил; и поверьте мне, не один год я уничтожил на это. Но я не представляю, если лицо моей верной служанки окажется не таким, как я его рисовал в воображении – и что мне прикажете с этим делать? И заметьте, вот это уже будет необратимо .
Одним словом, давно следует покончить с этим. Сейчас я сижу и диктую своему поверенному текст, согласно которого весь причитающийся мне капитал переводится на нужды какой-то там благотворительной конторы (по правде сказать, мне совершенно без разницы, какой именно). Оставшиеся деньги должны быть зачислены настоящим пансионом на свой счет в качестве оплаты за мое пожизненное пребывание здесь. Я не играю. Я действительно такой, как есть.
Вроде бы все. Огорчает одно. Теперь мне не избежать визитов моих многочисленных и чрезвычайно алчных наследничков; вопли, стенания и уймы проклятий мне обеспечены. Но, возможно, хоть теперь они поймут, как сильно я не хочу их всех видеть .
март, год 2003.
В жизни молодой женщины был свой большой город. Город, который она любила. Просыпаясь утром, она сладко потягивалась всем телом, вставала и следовала в ванную комнату, попутно заглянув в большое зеркало, встроенное в дверь шкафа.
Над зеркалом висели часы, и иногда эти часы заставали женщину врасплох. Стрелки почему-то показывали совсем не то время, на какое она рассчитывала! И тогда начинался переполох. Вдевая в ухо сережку и стараясь не промахнуться рукава на куртке, она запирала дверь и мчалась по улице, удерживая ремень сумки на плече, с одной только целью – добраться как можно скорей до службы и при этом сохранить не слишком запыхавшийся вид.
Здесь не очень любили опоздавших.
Маленькая девочка просыпаясь по выходным, любила подолгу смотреть в окно. За окном были видны хрупкие верхушки деревьев, иногда можно было увидеть, как с ветки на ветку сновали, отрывисто вертя головами, птицы. Птицы порхали, озабоченно щебеча о чем-то своем и наверняка – для них – действительно очень важном. Она бы очень хотела узнать, о чем именно и, прислонясь носом к прохладному стеклу, по которому сочились дождевые капли, почему-то верила, что когда-нибудь обязательно узнает. Затем, если моросящий дождик делал перерыв, маленькая девочка выходила на просторный балкон и вставала под робкие лучи утреннего солнца, закидывая голову назад и щуря глаза от их созревающего тепла. Постояв так, она шлепала по полу маленькими босыми ногами и забиралась в огромную круглую ванну и долго нежилась там, играясь с хлопьями таинственно похрустывающей пены, тоже пытающейся нашептать ей на ухо что-то загадочно непонятное. Впереди был свободный и беззаботный день, дома она опять была одна – можно было заняться чем заблагорассудится. Например, вдосталь полистать пухлые глянцевые каталоги с удивительно красивыми моделями платьев, примеривая в воображении особенно понравившиеся из них и смело представляя себя на месте манекенщиц. Или – вдосталь поесть мороженого, не особенно заботясь о каплях на коротком домашнем халатике. Можно было включить громко музыку и побеситься немного, прыгая с пружинящих подушек дивана вниз на пол и обратно, прижимая к себе пушистого розового щенка с грустными глазами, подаренного однажды на именины. Можно было позвонить кому угодно и болтать по телефону сколько угодно. Она любила такие дни.
Читать дальше