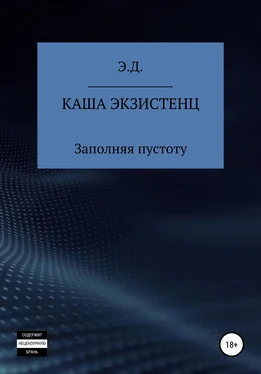– Вот и я. Слушай, тут обнаружилось, что на их полках с этой второсорщиной есть и нормальные вещи, – она кладет на стол книгу в мягкой обложке. – Может? Ну ты понимаешь.
– Может умыкнуть? Года три назад, ты бы и не сомневалась.
– Это да. Возраст берет свое, теперь я взрослая женщина, – шутливо говорит Агата.
– Оставь это мне, незаметно уберу ее в рюкзак, когда будем уходить.
– Ты серьезно?
– Насколько я знаю, эти полки здесь для буккроссинга, но все равно, лучше делать все незаметно.
– Ты чего? Что-то случилось?
Она немного опасалась его перемен настроения, конечно, в любом виде она найдет к нему подход. И вопрос был задан скорее из любопытства, нежели с действительной надеждой на ответ. Борис, не желая говорить о настоящей причине своего недовольства, нашел в зале жертву, на которую можно сослаться.
– Да придурок тот раздражает. Я и сам люблю в кофейнях посидеть, почитать или еще что, но не понимаю самодовольства тех, кто воображает себя очень творческим, «не такими как все».
Они меня заметили, придется уходить. С другой стороны их беседа сейчас меня мало заботит, да и вас, я думаю тоже. Каждый раз они говорят о знакомых, книгах, событиях, насущных проблемах, пока в итоге вообще не уйдут в дебри воображения. Это обычные люди, сидящие за столиком, ничем не отличающимся от десятка таких же. Два друга, болтающие о пустяках, пьющие кофе. И ты и я, – мы отрицаем время, договорились? Хотя бы пока говорим. Мы ведь говорим, верно? Ты даже не догадываешься. Отключись, возьми в руки отпечатки слов, фотографии символов. Здесь нет имен, нет мест, нет событий, – только видимость, схема, воронка.
***
Десятки кирпичных комодов с людьми, меж ними землистые улочки, роща фонарных столбов с сияющей кроной. Улицы и здания зеркальны, в них теряешься, глазу не приметен ни один ориентир. Лабиринты Хрущева, развалины советской эпохи, затертая краска фасадов, пятна асфальта на грязной земле. Железнодорожные пути, отзвуки жизни вокзальной станции. Побитые своим существованием люди, залив полость тела спиртом, ночами пляшут под музыку, порожденную развалом. Во всем этом своеобразная жизнь провинциальной глуши, не признающей себя таковой. Глуши, население которой воплотило в себе гибель юношеских надежд, ошибок беспочвенной самонадеянности, но в то же время Агата находит в этом латентное отражение неуклюжей чувствительности, противопоставляя ее механически-точным действиям успешных людей. Это место было ее комнатой взросления, постепенного открытия жизни. Комнатой с выцветшими обоями, рваным линолеумом, плохой шумоизоляцией. Окружность горизонта лишь стены, покинув которые, стремишься навестить вновь. Агата не желала покрывать свой поселок саваном смиренного прощания, взамен покрыла их вуалью личной ценности, трепетом воспоминаний, домашним уютом, старческим принятием убогости пейзажа. По схожим причинам можно скучать по болезненной, но сильной безответной любви детства, по родителям, что покинули тебя в нужде. По тем же мотивам, можно прятать билет от поезда или гербарий меж книжных страниц, хотя реальная цена этого вклада равна мусору. Ее душу тяготил разрыв между вполне логичным отказом и чувственной привязанностью к этим местам. Она проводит утро за книгой, размышляя о далекой Японии, далекой скорее в контексте истории и мысли, нежели географии. Неспеша, она листает книгу «Хризантема и меч» Рута Бенедикта. Она думает о самураях. Самурай постоянно помнит своих врагов. Они его совесть, которая никогда не спит. Эта мысль занимает Агату, а после она улыбается: «А если у меня нет врагов? Значит у меня нет совести, или она спит?».
Поток фантазии нарушает звонок в дверь. Она ждала этого, так даже лучше. В квартиру заходят ее подруги. Ничего примечательного, поселковые девицы. Простоволосые, ярко накрашенные. Они привлекали ее своей вульгарной духовностью, замызганной пошлостью. Их смех наполняет стены, они пьяны, но это только начало. Агата проводит их на кухню, наливает добавки из своих собственных запасов. Она умеет пить, ее желудок выдержит и не такое, а вот подруги раскисли. начали нелепо хихикать и вдаваться в подробности о своей половой жизни. Их генитальные войны занимали Агату лишь как предмет изучения, становились почвой дальнейших размышлений. «Они несчастны, но не знают об этом». Про себя она это знала. Та, что побольше разразилась смехом, при упоминании парня с крохотным членом. Она хрюкала, закашливалась, а потом попыталась подняться. Ее юбка задралась, оголив застиранный треугольник ткани. Она подходит к зеркалу, щурится и говорит: «Что этому козлу надо? Я же красивая, и сиськи есть и все что надо». Агата смеется, спокойно кивает. Еще недавно она размышляла о том, что ценность чести превыше всего в этой жизни. Она где-то читала, что жизнь человека считалась тем прекраснее, чем она короче, особенно если жизнь была яркой. Она восхищалась сэппуку, но считала, что жизнь дана для того, чтобы ее прожить. В ней смешалась советское смирение дедушки и самурайское отношение к смерти, где последняя является обычным ходом вещей. Она смотрела на свою подругу, глуповатую, но простую душой. Что бы ты ей не советовал, как бы подробно не объяснял, она встретит другого парня, затем еще и еще, пока не окунется в отчаяние и не женится на первом встречном. До тех пор, все слова лишены смысла, но Агата будет поддерживать ее, просто потому что так надо. День за окном будет терять свои краски, все медленнее и не разборчивее будет становится речь пришедших дам.
Читать дальше