В тот миг я так хотел вернуть это. Так хотел удержать. Я вдруг понял, что Лея была права – я ничуть не лучше, чем мой отец, который отказывался стареть и попробовал откупиться от своих детей ценными подачками, вроде дома или карьеры. Я был таким трусом. Вот чему меня научил мой отец. Но если он собирался скрываться вечно, то я не планировал упускать свой украденный шанс у смерти. Я пообещал себе, что все исправлю. Было не важно, что будет потом. Неважно, что я не могу ничего исправить на самом деле. Тогда мне казалось, что я просто мало старался. Тогда мне казалось, что моя воля может сотворить настоящие чудеса. Но я ошибался.
Через несколько дней Даррел очнулся, но не хотел меня видеть. В моем мире настали тишина и тьма. Я погрузился в бездну. Все, что я мог – это сидеть на нашей крохотной кухне и думать о том, что я ни в чем не виновен. Что он просто злится. Но стоило мне только закрыть глаза, как я слышал отчетливое щелк, щелк – и запах корицы, окутывающий меня, вдруг становился все дальше и дальше, а потом исчезал совсем. Я знал, что на этот раз не сумею сочинить для него никакой истории. Реальность ворвалась между нами и растоптала все, что я мог для него придумать. Мы оба остались ни с чем, и мне даже казалось, что это значит: ничего не было вовсе. Я никогда не бывал в том туалете, не пялился на его лицо, не тискал в руках эти кудри, не слышал тот смех. Ничего не было – ни шрамов, ни татуировок, ни кухонных полотенец. Я устал слоняться по дому, пытаясь убедить себя в том, что все реально, поэтому собрал вещи и поехал пожить у Леи. Тогда я еще не знал, что вижу ту квартиру в последний раз.
***
Быть одиноким чертовски страшно. Начинаешь бояться всего на свете. Тени напрыгивают со стен. Боишься застрять навсегда в лифте. Боишься, что темнота означает, что кто-то выколол тебе глаза, и ты никогда его не опознаешь. Боишься думать. Боишься спать. Понимаешь: весь мир полон опасности. И тебе не спастись, если ты в одиночестве. Кто вызовет скорую, если что? Кто узнает твой голос за дверью? Кто ответит на твой телефонный звонок?
Никто, никто, никто, никто.
Лея меня не трогала. Я таскал еду по ночам из холодильника, украдкой читал ее книги, которые она оставляла на кухне. Оказывается, тот альбом Даррела все еще был здесь – прерафаэлиты, Прозерпина, гранат. Офелия в ледяной ванной. Сплошь рыжие кудри и смерть, смерть, смерть – или то, что пока еще на пороге смерти. Агнец, приготовленный на заклание. Жена Россетти. Как же ее звали? У моего телефона давно закончился заряд. Но я подслушал из спальни, как Лея говорила с матерью Даррела. Да, я понимаю… но может, им стоит? Значит, не говорит? Мне так жаль… А физически? Он же в норме?
Да это он просто с ней говорить не хочет, хотелось выкрикнуть мне. Даррел не был близок со своей матерью. Даррел ни с кем не был близок! Ну, кроме меня. А я не ответил, когда он так настаивал. Я его бросил. О боже, боже мой, блядь.
Лея нашла меня рыдающим у кровати. Она выглядела строгой – ну, как может выглядеть строгим колобок на ножках. Она тогда была уже месяце на восьмом.
Возьми себя в руки , приказала она. И сделай так, чтобы Даррел пришел на ужин. Сделай так, чтобы было как прежде, Бенджамин! Но так не бывает, захотел возразить я ей. Но Лея не стала бы слушать. Поэтому я промолчал.
Для начала хотя бы побрейся, скривилась она, прежде чем хлопнуть дверью. Выглядишь как чудовище. И хотя им я и являлся, я все равно покорно отправился в ванную и мучал электронную бритву Дэна, пока под зарослями шерсти не появилось мое лицо. Не то чтобы я был очень уж рад его видеть, но это действительно было начало.
***
Его глаза. Первое, что поразило мое воображение – холодные, ледяные, серые. Темное небо перед грозой из документалки про природу – вот оно застыло на кадре, но в следующую секунду кто-то ускорит съемку, все замерцает, начнется дождь. Но это предгрозовое небо тянулось, тянулось, как будто застыло на кадре. Даррел не отводил глаза. Я тоже. Мы оба молчали. Его прежде пушистые волосы были прилизаны, кудряшки печально обвисли – как будто все в нем потускнело. Наконец он сказал мне: Энджи уходит! Но я не ушел. Тогда он стал плакать. Я взял в руки его ладони, а он принялся колотить меня – отчаянно и горько, беспомощно, как пытаются защититься трехлетние дети. Потом он застонал, потом обнял меня, потом настойчиво произнес: Послушай! Всхлипнул и замолчал. Я слушал. Тишину между нами, биение его сердца. Чувствовал, как его ладонь, становясь теплее, сжимает мое плечо. Нифига себе ты обдолбался , наконец произнес я. Он ухмыльнулся – криво, как будто любая улыбка могла причинить ему боль. Ну а что мне еще оставалось?
Читать дальше


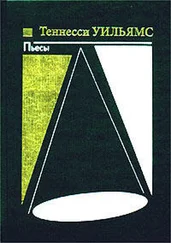



![Мелани Бенджамин - Госпожа отеля «Ритц» [litres]](/books/384861/melani-bendzhamin-gospozha-otelya-ritc-litres-thumb.webp)




