XVIII
Но три жонглера и другие люди, которыми был полон не слишком большой дом Пеире, все сказали, чтобы она так не делала. Наследники Бельчонка хозяйничали у него в доме; каждую вещь, которая ему принадлежала, можно обратить в реликвию чудодейственных сил. А храп Пеире непочтительно раздается из винного погреба. Выпив, он подолгу спит, это мешает остальным наследникам, а среди них люди Каркасонского архиепископа, это ему Бельчонок отказал бо?льшую часть движимого имущества, и они надеются на скорую смерть Пеире, ведь и Бельчонок умер опоем. Тогда им достанется и погреб, и страх у них только один: чтобы Пеире не опомнился и чтобы кто-нибудь из гостей не дал ему опомниться. Вот почему дом и сам винный погреб стерегут, к Пеире просто так никого не пускают. И вот егерь, который хорошо играет в забавную игру на столе, вызвался сопровождать Элеонору, говоря, что если он пойдет, то других не надо. Элеонора сказала ему, пусть он идет, но не надо брать с собой свою красивую собаку. В винный погреб она сойдет одна.
Вокруг дома Бельчонка разросся яблоневый сад, и это был август в самом начале, когда они, Элеонора и ее злополучный егерь, шли верхом. Егерь отгибал ветки, свисавшие поперек пути, и падающие яблоки наделали много шума. Люди Каркасонского архиепископа ошибкой подумали, что к ним идет конный отряд; когда же на лугу перед домом показалась Элеонора в сопровождении одного только верхового, испуг их прошел, они опустили пики, убрали заграждения из досок, за которыми прятались лучники архиепископа; дама была допущена в винный погреб, так как они прониклись к ней доверием и с надеждой думали о том, что вот она-то могла бы вывести Пеире оттуда. «Столько времени он там один, совершенно один».
И пока Элеонора пребывала в погребе, в доме стояла полная тишина. Одно событие нарушило ее, впрочем, незначительное, и теперь о нем не стоит.
Где-то в глубине погреба брезжил свет. Пеире лежал возле небольшой бочки, накрыв лицо войлочной шляпой, почти совсем пришедшей в негодность. Это была шляпа Бельчонка. Элеонора много раз наступала на черепки глиняных кружек. За лентой шляпы Пеире распускался тот самый цветок мака, который у Бельчонка был коробочкой. На пустой бочке, поставленной на стол, горел маленький светильник, хорошо вычищенный (медь лоснилась) и заполненный маслом. Кто-то заботился о нем, о кружках, которые стоят на бочке чистые, и о самом Пеире, коль скоро ему накрывали лицо шляпой, чтобы он не простудил головы. Это могли быть люди Каркасонского архиепископа или другие наследники Бельчонка, спускавшиеся в погреб, когда Пеире засыпал. Они искали чудодейственные предметы и здесь. Но кружки не были чудодейственны, пустые бочки тоже. А вино принадлежит Пеире, и прогнать его нельзя.
Не так уж он и страдал. Хорошего вина выпив, разве страдают? Не так уж и спал: днем нельзя спать весь день. Не так уж его и беспокоил кремнистый хруст черепков у кого-то под ногами: сюда приходят проверять, не умер ли он, да разве кто умирал от хорошего вина? «Его тяжелая голова прикрыта шляпой из войлока», – говорил один из трех жонглеров. Элеонора приближалась и сострадала ему, желая взять не себя хоть часть этой тяжести, как она желала бы взять на себя хоть часть тех мук, которые вынес сеньор, когда тулузские власти расспрашивали его о странных похождениях князя Блаи, любви которого никто не мог понять. Жаль только, что Бог (и кормилица с необъятной грудью) наделили Элеонору негодным для всякого сострадания здоровьем. Не испытывая даже легкого недомогания, она оказалась неспособной и к душевным мукам. Поэтому ее желание было искренним, а сострадание никого не терзало. «Бедный Пеире, – подумала Элеонора. – Как ему сейчас должно быть плохо!» Напрасно вот только она не решалась убрать войлочную шляпу с его лица. Она бы увидала самую блаженную улыбку, какую ей когда-либо приходилось видеть.
Голове его было легко, и ум Пеире странствовал в прошлом. Другие Шестьдесят, и это его больше всего забавляло, снились и грезились (а, стало быть, так оно на самом деле и было) подходящими ко всему. Их четы, тройки, пятерки захватывали и такое, что давно считалось дурным тоном говорить, только в их руках это не было дурным тоном. Все про листья да цветы, да птичье пение, словом, песни-то не бог весть какие, забывчивые в отношении к сложной науке воздаяния нежностью за нежность, какой-то неуемный детский плач, какого Пеире не знал и у старых певцов. Даже холостые, теперь вступившие в право на одиночество, уставшие от простых сочетаний с одним и тем же знаком, за эту усталость были вознаграждены, а боль поражений им возместилась с той силой, с какой они держат неудержимое и подвижное, не мешая ему при этом оставаться неудержимым и подвижным, как и сами они, расставшись с привычным, обрели множество неясно существующих подобий в разбившейся на руслица немоте. Как хорошо теперь понимал он князя Блаи, этого рассказчика рассказчикам, вечно толкавшего его к непонятным существам, подыскивающего для него то омут, то вершину, и открывшего ему тайну тех, кто ЕЩЕ не жил. «Даже здесь нельзя торопиться, – говорил он, отыскивая в низкой ветке жимолости подходящий цветок. – Да, и знай, Пеире, что пчела или шмель с их жадно настроенным хоботком в этом деле нам не советчики».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



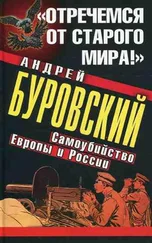

![Джек Вэнс - Глаза другого мира [Глаза верхнего мира, Глаза чужого мира]](/books/336901/dzhek-vens-glaza-drugogo-mira-glaza-verhnego-mira-thumb.webp)

