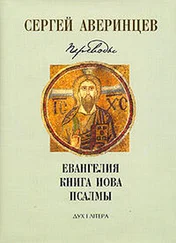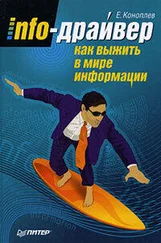Утром обескровленный труп запихнули в багажник служебной серебристой Волги. "Езжайте в Останкино. Я чуть позже". Кшатрий вернулся хлебнуть коньяку и доложить об отправке груза. На пересечении Садового Кольца, в пробке, из сизого смога возникли двое мотоциклистов с пассажирами. Сблизились с Волгой, зажатой со всех сторон ревущими и готовыми к немедленному движению иномарками. Пробки — не редкость. Все же центр мегаполиса. В считанные секунды мотоциклисты разъехались в разные стороны, а за рулем Волги вопреки маршруту влево развернулись два молодых человека. Обладатель густой черной бороды, лысины и пальто, Анатолий, с напрочь безумными глазами, сидел на месте пассажира рядом с водителем и добивал в сердце большим охотничьим ножом скинутых назад молодых лейтенантов в штатском. Пистолет с глушителем завалился под сиденье. Водитель Стас, худой москвич в очках, обтянутый черной байкерской косынкой, резко рванул еще раз влево, через три квартала тело перебросили в красные Жигули и скрылись в сизом выхлопном дыму. Бросили машину на платной стоянке, в спальном районе. Анатолий вспомнил завещание, согласно которому труп следовало пустить на горящем плоту под зажженные факелы, и при этом употреблять спирт.
Три дня за городом собирали плот. Скручивали бревна намертво. Вторая Фрунзенская как раз выходит на набережную Москва-реки. Плот спустили на воду. Разложили погребальный костер. Тело обернули в знамя. Голову прикрутили скотчем. Анатолий еще утром вырезал для потомков мозг, сердце и отпилил руки. Руки уложили в стеклянный саркофаг, мозг и сердце — в две трехлитровые банки. Временно.
Плот облили спиртом. Зажгли факелы. Люди в черном развязали последний канат, и плот начал медленно удаляться. Анатолий натянул тетиву и выстрелил. Огненная стрела упала точно в цель. Заполыхало. Все налили спирт. Пили и смотрели на зарево. Не опуская факелы, медленно двинулись обратно. Никто не проронил ни слова. В Бункере зазвонил телефон. Никто не хотел подходить. Взял Анатолий. Голос человека очень походил на тот самый, голос Патрушева. Кшатрий говорил отрывисто, не грубо, словно констатируя факт, подводя итог:
— Будем считать, что жертвы поровну, Анатолий. Не надо больше крови. Наших двоих — на одного вашего, и хватит. У меня и так полно неприятностей в связи с пропажей тела. Ну что, мир?
— Ладно, мы подумаем, — Анатолий повесил трубку.
Холодная война вскоре продолжилась. Никто и не думал её прекращать. Время разделилось надвое. «До» и «после». Начались театральные игры. Якобы они показали интервью с Лимоновым в тюрьме. Лживые уродцы. Кого они там загриммировали? Что это за неряшливый тип в рваном трико с пузырями на коленках? Актёришка какого театра с блуждающим взглядом и робкой, сбивающейся речью, до безобразия похожий на Троцкого? Это был не наш вождь. Не фюрер. Не Председатель Национал-большевистской партии. Не стал бы он перед всей страной в прайм-тайм, когда родные и близкие наших партийцев переживают у телеэкранов, вот в таком смешном одеянии, оправдываться как пойманный родителями, непристойно мастурбирующий подросток. Как когда-то Баркашов, "прошу прощения перед неграми", на коленках под дулами автоматов. Нет ни одного доказательства, что на экране был именно Лимонов.
А потом — всё остальное — это уже был тем более не он. Неужели из национал-большевика, лидера самой ультрарадикальной партии в России, так легко превратиться в Новодворскую номер два? Вряд ли подлинный Лимонов стал бы в один ряд с Боннэр и Буковским, с теми, кто на своих диссидентских кухоньках с беломорчиком десятилетиями проклинал "тюрьму народов". Это не его рука начала строчить из тюрьмы письма к партии, на волю, с требованием убрать все радикальные античеченские и антилиберальные лозунги. Обращения к французской интеллигенции и их президенту Шираку о новой сталинизации России. Настоящий-то Лимонов как раз к сталинизации целых восемь лет всех призывал и агитировал, склонял несколько поколений партийцев на всех митингах и демонстрациях прославлять Сталина, Берию и Муссолини. Он бы после этого еще и в США письмо отправил, о свертывании в России демократии, там сейчас все об этом пишут. Востребованный товар.
Понесло. "Свободу чеченскому народу". "Права человека". "Нельзя прославлять ГУЛАГ, пока я сам политзаключенный". Умора. Представляю себе Гитлера, в застенках вместо "Майн Кампф" сочиняющего обращение к еврейской интеллигенции о нарушении прав человека в Германии. Хотя в политике и не такое бывает. Чего еще ждать? Политика — очень древняя профессия.
Читать дальше


![Игорь Шафаревич - Записки русского экстремиста [Политический бестселлер]](/books/62957/igor-shafarevich-zapiski-russkogo-ekstremista-poli-thumb.webp)