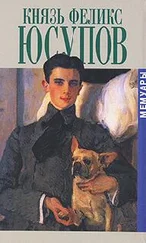Она раздумывала, и я понял, что момент ее откровенности близок. Нужно было только не испортить игру. И я догадался. Я помолчал вместе с ней, спокойно закурил трубку, мило улыбнулся и сказал:
«Ладно. Считайте, что вы заслужили быть посвященной в истинную причину моей настойчивости. Люди вашего круга считают адвокатов людьми второсортными. Но у меня есть амбиции. Мне будет просто приятно вам помочь. Не то чтобы это возвысило меня над вами… но, скажем, поставило бы на одну доску. Скажете, тщеславие? Не думаю; ведь мне неважно, что подумают об этом другие. Важно, что я буду знать. Мне будет приятно сознавать, что для вас — непростой пташки — я стал единственным избавителем не в силу адвокатских обязанностей перед клиентом, а в силу творческого, можно сказать, неформального отношения к равному себе существу. И вы, кстати, тоже об этом не забудете — просто потому, что забыть будет для вас унизительно. Вот, собственно, и вся моя хитрость… Вы хоть поняли, что я сказал?»
После моих слов ее лицо изменилось. До этого она держала себя со мной подчеркнуто официально. Это была строгая деловая женщина, изысканно одетая, в очках; повторяю, очень красивая, но не допускающая ни малейшей фривольности ни в одежде, ни в словах, ни в манере поведения. Всем своим видом — но только видом! — она подчеркивала, что все происходящее с ней — плод чьих-то происков или, на крайний случай, милицейской ошибки. В начале работы над делом я тщетно пытался убедить ее в пользе откровенности с адвокатом. То, что я по ее просьбе называл ее Ольгой, опуская отчество, было единственным неформальным элементом в наших отношениях, ее вежливой данью трудной для нее ситуации. Она не воспринимала меня ни как профессионала, ни как личность.
Но теперь, едва я произнес последнее слово, с ней произошла удивительная метаморфоза. Она сняла очки и положила их на стол. Она положила ногу на ногу настолько сексуально, насколько вообще возможен этот в общем-то естественный жест. Ее лицо разгладилось, а глаза сощурились; ее губы капризно выпятились; она достала из сумочки дорогие сигареты, закурила и выпустила дым мне в лицо.
«Родной, — хрипловато сказала она блатным, насмешливым тоном, — раз уж ты так запел, придется и мне с тобой разговаривать по-другому. Помочь решил? Хорошо; только знай, что больше чем своей пиздой я ничем тебя не отблагодарю за твое хорошее. Конечно, это тоже не так уж мало; знал бы ты, сколько членов правительства ползало вот у этих ног, вымаливая право даже не то что лизнуть, а лишь понюхать между ними! Ах, мои ноги, как я их люблю… но и мне, раз уж прямой разговор, будет в кайф задрать их к тебе на плечи, потому что никогда прежде у меня не было в любовниках ни адвоката, ни, представь себе, курильщика трубки, ни даже просто человека по имени Корней. Ты видишь, как я заинтересована в тебе? Может быть, ты шокирован? Нет, милый! ты сейчас дрожишь от желания и, может быть, через минуту уже и кончишь под своим канцелярским столом. Побереги сперму, дружок, она нам пригодится. Тебе понравится, как я буду слизывать ее с твоего живота. Теперь ты понял, какая я? Ты прав, я — дрянь, гетера; в этом — не считая сына, конечно — смысл моего существования, так как всего остального я накушалась вот так», — и она провела своей точеной, изящной рукой вдоль своей не менее точеной, не менее изящной шеи.
Должен сказать тебе, что, будучи мужчиной, я обладаю всеми мужскими достоинствами и недостатками, а поэтому она была совершенно права насчет моей естественной реакции, то есть в итоге именно спермы, которую к этому моменту я с трудом удерживал в органе, готовом исторгнуть ее прямо в трусы. От этой борьбы с собой мне сделалось нехорошо; дыхание мое стало прерывистым, голова закружилась. Ольга докурила сигарету, аккуратно затушила ее в моей трубочной пепельнице и посмотрела на меня, желая, как я понял, заговорить уже о делах. Однако по моему виду она вмиг поняла, что со мною творится, и легкая тень досады, смешанной с сочувствием, промелькнула на ее в общем-то вполне дружелюбном теперь лице.
Тогда она нагнулась и запустила руку по локоть к себе под юбку, однако так, что внезапно вошедший в комнату человек мог бы единственно заключить, будто она ищет на полу какую-нибудь оброненную булавку. Затем, выпрямившись, она быстрым движением поднесла свои пальцы к моим ноздрям, и я уловил слабый, опасный, влекущий аромат. Я не стал отворачиваться. Не хотел — ведь я видел, что она вошла в мое положение и собралась мне помочь; да и не смог бы, честно говоря — слишком уже велико было мое желание. Того, что она сделала, было вполне достаточно, чтобы событие под столом разыгралось немедленно и бурно. Я удержался от стона, только слегка прикрыл глаза; сквозь щель в веках я видел, что выражение досады и сочувствия уступило место жадному любопытству, с каким она наблюдала за изменениями моего лица.
Читать дальше