— Пятьдесят три дня и ты все еще не спросил, что привело тебя сюда.
Я без выражения смотрел на него.
— В первый свой день тут ты сказал мне, что не знаешь, как сюда попал. И после этого ни разу об этом не говорил. Ни разу не спросил, кто платит за твое пребывание здесь. Ни разу не спросил, откуда у тебя на счету деньги, деньги, на которые ты покупаешь себе сигареты, мыло, шампунь, крем для бритья и тому подобное. — Он замолчал, словно не уверенный в том, следует ли продолжать, но затем на его лице появилась решимость. — И ты ни разу не спросил меня о своей семье.
Я весь оцепенел. Знаете, я чувствовал себя одним из тех автомобильных стекол, которые разбивал битой. Язык прирос к небу. Я не мог говорить. Я не знал, что сказать.
— Зак?
Адам изучающе смотрел на меня. Я не отводил взгляда. Я знаю, что в моих глазах застыл вопрос. В его глазах — тоже.
— Адам, я не хочу этого знать.
— Не хочешь знать или боишься узнать?
— Я сказал тебе, что не отличаюсь храбростью.
— Ты храбрый, Зак. Разве я тебе не сказал однажды, что ты уже пережил самое худшее? Ты здесь. Ты жив. Ты уже пережил все самое плохое.
— Я не жив.
— Жив.
— Я ничего не чувствую. Я ненавижу что-либо чувствовать. Я говорил тебе.
— Но ты же чувствуешь, Зак. Когда я не пошел за Шарки, ты ужасно разозлился на меня. Я предполагаю, это из-за того, что ты любишь Шарки. И ты любишь Рафаэля. Я видел, как ты смотрел на него, когда он рассказывал о своем сыне. Потом ты посмотрел на меня, и, кажется, я знаю, что ты хотел сказать своим взглядом. Я предполагаю, что ты хотел, чтобы я унял его боль. Ты хотел, чтобы Рафаэль освободился от боли, и хотел, чтобы я что-то сделал. Я прав?
— Да, что-то в этом роде.
— Я не могу унять его боль, Зак. Но ты любишь его. Ты любишь Рафаэля, я это вижу. Это прекрасно. Это чувство прекрасно, Зак.
— Оно приносит невыносимую боль, Адам.
— Согласен.
— Ненавижу это.
— Но любовь не всегда приносит боль, Зак. Тебе никто не говорил, что она может приносить большую радость?
Никто и никогда не говорил мне ничего о любви. Ни единого слова.
6
У Эмита, нашего нового соседа, шоколадная кожа и черные глаза. Он довольно здоровый парень и в чем-то похож на Шарки. Он любит шмотки. У него полно солнечных очков, часов и тому подобного. Огромное количество дорогущих кроссовок и куча одежды. Ему около тридцати, и он, как и Шарки, занимает много места. Рафаэль не перестает улыбаться, и я знаю, чему он улыбается. Он думает о том же, о чем и я: этот парень уже занял всю кабинку номер девять. Но нам обоим пофиг на это.
Эмит не очень разговорчив. Такое ощущение, что он мыслями где-то не здесь.
Я читал книгу, а Рафаэль рисовал. Разложив свои вещи, Эмит сунул в карман пачку сигарет и был таков.
— Люди приходят сюда и уходят, — сказал я.
— Никто не останется здесь навсегда, Зак.
— Наверное, нет.
Мне пришла в голову мысль, что Рафаэль тоже не задержится тут надолго. Я чувствовал это. Он сам сказал, что ощущает себя обновленным, как в пустыне после летней бури. Сердце екнуло. Что я буду делать, когда он уйдет? И я сам, насколько я тут останусь? Меня снова охватила тревожность. Черт.
Я встал с постели, отложил книгу и подошел к Рафаэлю посмотреть, что он рисует. На картине в самом центре ночного неба светила луна. Слева от нее Рафаэль рисовал какой-то силуэт.
— Что это будет?
— Койот.
— Почему койот?
— Он будет выть. То есть, по-своему петь.
Было непохоже, что его койот воет. Я пригляделся. Рафаэль еще не дорисовал его, но тот выглядел так, словно готовился к прыжку в воздух. Словно он был счастлив.
— Хоакин. Мне очень жаль, — сказал я, сев на стул рядом со столом Рафаэля, как делал всегда, желая с ним поговорить.
— Думаю, он — одна из причин, по которым я пришел сюда. Чтобы отпустить его. Воспоминания о нем — один из моих монстров. Прекрасный Хоакин. Я не в силах больше носить все это в себе, Зак.
Кажется, я понимал, о чем он говорит.
— Я не мог заснуть прошлой ночью. Тебе снился кошмар. Ты говорил с Сантьяго. Всё повторял: не надо, не надо, не надо. Я подошел к тебе и сел на твою постель. И знаешь, что я сделал, Зак? Я спел.
— Спел?
— Да, Зак.
— Но ты же сказал, что перестал петь в день смерти Хоакина.
— Я не пел до прошлой ночи.
— И что ты спел?
— Одну песню. Я пел ее Хоакину.
— Ты спел ее мне?
— Да. И ты успокоился и затих. Мне подумалось тогда, что ты снова в безопасности во сне. Я встал, оделся и пошел к дереву, которое назвал Заком. И я встал возле него и начал петь. Я пел ту песню и, клянусь, ощущал себя так, будто она огнем льется из сердца.
Читать дальше





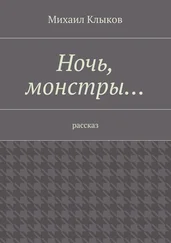
![Амелия Грей - Прошлой ночью с герцогом [litres]](/books/411173/ameliya-grej-proshloj-nochyu-s-gercogom-litres-thumb.webp)





