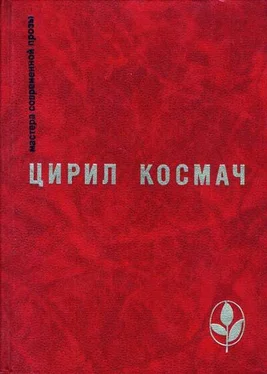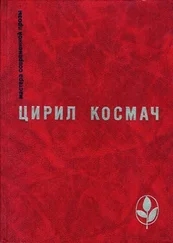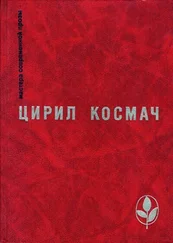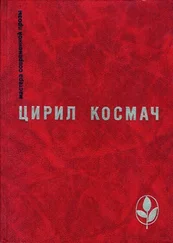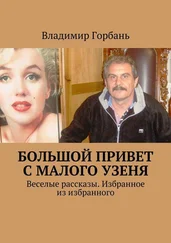— Сынок, что ты говоришь?.. Мы же тебя любим!
— Да! А почему вы меня любите так чудно?
Мама опять будет долго всматриваться в него странным взглядом — словно желая проникнуть в какую-то даль и там прочесть то, что скрыто от него. Громко пробьют стенные часы, одинокая ночная бабочка закружится вокруг слабого огонька лампы. Мама с трудом выпростает руку из-под одеяла и привернет фитиль. Потом скажет со спокойной покорностью:
— Чудно любим?.. Мы и правда любим тебя иначе, чем других детей… И наверно, даже больше, чем других… Но не потому, что ты заслуживаешь любви больше, чем другие, а потому, что ты в ней, должно быть, больше нуждаешься.
Эти слова он уже дважды слышал из уст матери. В первый раз он был тронут и сконфужен, во второй — задет, точно его, не говоря прямо, упрекнули в каком-то душевном изъяне, которого он сам никак не уразумеет. И если сейчас он услышит это в третий раз, будет до того худо, что впору забиться в какую-нибудь дыру и в одиночку сокрушаться над самим собой. Но на самом деле он не стронется с места, ибо совесть будет терзать его уже за одну мысль сбежать от матери. И надо будет как-то нарушить эту гнетущую тишину, которая отдавалась зловещим гулом, точно из отдаленного будущего неслись ему навстречу мутные волны еще неведомых невзгод и горя. И он снова шмыгнет носом и, заикаясь, скажет:
— Может, принести тебе что-нибудь?.. Может, подогреть кирпич?
— Нет, нет, — поспешно возразит мама. Опять улыбнется и даже пошевелится под одеялом. — Сегодня я себя хорошо чувствую. Правда, хорошо… А ты иди… И ложись… И засни, мальчик мой! Засни и не думай ни о чем!
— Я не буду.
— Обещаешь?
— Обещаю.
Он опустит голову и выйдет из комнаты. Тихонько прикроет за собой дверь, остановится за нею и жадно вдохнет свежий воздух. Потом оглядит просторную горницу, которая от лунного света стала словно еще просторнее. Все вещи, особенно старинная фисгармония, кажутся более темными, а потому выглядят мягче и приветливее, чем при свете дня. Они подобрели от ночного отдыха и незаметно дышат, точно кроткие ручные существа. Сквозь окна, выходящие на юг, лунный свет льется на белый яворовый стол, окруженный высокими стульями, светлый и ясный, словно еще бодрствует. Желтоватая белизна стола приветливо глянет на малого, так что он невольно засмотрится на нее, успокоенный и примиренный. Потом он удивленно покачает головой и на цыпочках отойдет от стола, а тот будет глядеть ему вслед белым прямоугольником, провожая его с немым сочувствием до двери, ведущей в сени. Малый отопрет ее, притворит за собой и остановится в полной темноте. И тут его снова охватит тишина с ее затаенным гулом. Сердце его сожмется, он нашарит ногой шаткую ступеньку и торопливо зашагает по лестнице, точно убегая от высоких мутных валов, которые с неудержимой силой все быстрей и бурливей катятся на него из будущего.
Да, бедный малый! Три года он проучился в начальном торговом училище. Но дальше дело не пошло — бедность накрепко заперла ему путь в Горицу. Это был такой тяжелый удар, что он без борьбы покорился своей судьбе, как покоряется арестант, приговоренный к пожизненному заключению. И жил он, как арестант: молча, старательно, но без всякого интереса выполнял положенную работу по дому и никуда не ходил. Хорошо еще, что он дома один, а дом стоит на отшибе, в получасе ходьбы от села, на левом берегу Идрийцы. Дороги тут не было, просто вдоль реки тянулся ухабистый проселок, на котором в иной день не показывалось ни души. Деревню малый возненавидел, так как был убежден, что там все только и делают, что судачат о нем. Он прямо-таки видел, как деревенские насмехаются над ним, а еще того пуще — над отцом. Вот, мол, так ему и надо, земли мало, а туда же — пыжится, посылает парня в училище. Теперь он ни крестьянин, ни барин, всю жизнь несчастным будет.
С насмешками в свой собственный адрес малый, сколь это ни трудно, еще мог бы смириться. Как-никак, они придавали еще большую цену и остроту его страданию, которому малый отдавался с тем особым болезненно-мстительным наслаждением, с каким страдают подобные ему юные бедолаги. Другое дело насмешки над отцом. Мысль о них причиняла боль, но эта боль была естественной и неподдельной. Малый не мог поднять глаз на отца. Находясь в той наиболее мучительной поре юношества, когда человек, обремененный чувством некой роковой вселенской вины, бродит во тьме по холодной и клокочущей реке, текущей между отроческим и юношеским возрастом, он, разумеется, упрекал себя в том, что отец страдает из-за него. На вопрос, в чем его вина, он, естественно, давал себе ответ, который больше всего подходил к его душевному состоянию, а именно: он виноват уже тем, что существует, тем, что живет на свете. Как хорошо было бы, если бы его вообще не было!..
Читать дальше