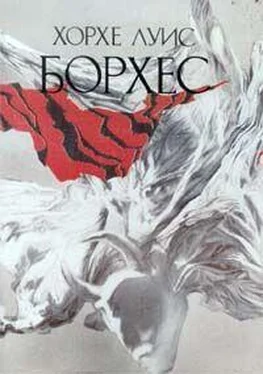Пятое датируется маем 1908 года: «Сколь ужасны мысли Жанны относительно „per speculum“. Радости этого мира могут оказаться адскими муками, увиденными в зеркале, перевернутыми».
Шестое датируется 1912 годом. Им проникнута каждая страница книги «L'аme de Napolеon» [4], цель которой – разгадать, что за символ являл собой Наполеон, рассматриваемый как предтеча другого героя – также человека – символа, – который еще грядет. Достаточно привести два фрагмента. Первый: «Любой из нас живет на земле, дабы служить неким неведомым ему самому символом и дабы воплотиться в песчинку или гору, в том незримом сырье, которое пойдет на строительство Града Божьего». Другой: «Нет на земле человека, который мог бы с уверенностью сказать, кто он. Никто не знает, для чего он пришел в этот мир, с чем соотнести свои поступки, свои чувства, свои мысли, не знает даже своего истинного имени, своего бессмертного Имени в пронизанных Светом списках… История – это нескончаемый литургический текст, в котором йоты и точки не менее значимы, чем стихи или же целые главы, однако смысл тех и других никому не ведом и глубоко сокрыт».
Читатель вправе думать, что Блуа в приведенных высказываниях всего лишь хотел ему польстить. Насколько мне известно, он и не помышлял об их доказательности. Между тем, на мой взгляд, они достаточно убедительны и, пожалуй, даже органичны для христианских воззрений. Блуа – повторяю – всего лишь применил к Мирозданию как таковому метод, который каббалисты-евреи применяли для толкования Писания. Последние полагали, что книга, внушенная Духом Святым, являет собой совершенный текст, иными словами, текст, в котором элемент случайности практически равен нулю. Уверившись для начала в том, что случай не властен над посланной нам свыше книгой, тайный смысл которой нам недоступен, они с неизбежностью стали переставлять местами слова Писания, подставлять числовое значение букв, придавать значение их форме, учитывать, заглавные они или строчные, выискивать акростихи и анаграммы, а также впадать в иные экзегетические ухищрения, которые трудно принимать всерьез. В основе этих взглядов лежит убеждение в том, что творение высшего разума чуждо случайности [5]. Леон Блуа усматривает этот иероглифический характер – характер божественного Писания, криптографии ангелов – в каждом мгновении и в каждом создании. Человек считает, что он постиг это Писание жизни: в тринадцати сотрапезниках ему видится символ смерти; в желтом опале – символ грозящей беды…
Сомнительно, чтобы наш мир был воплощением некоего смысла; тем более сомнительно, заметит скептик, чтобы в него был заложен двойной или тройной смысл. Я полагаю, что так оно и есть. Но я полагаю также, что иероглифический мир, выпестованный Блуа, наиболее соответствует рациональному Богу теологов.
Ни один человек не знает, кто он на самом деле, утверждал Леон Блуа. Никто лучше его самого не иллюстрирует эту сокровенную слепоту. Он считал себя ревностным католиком, будучи последователем каббалистов, тайным братом Сведенборга и Блейка – ересиархов.
«Лондонское приключение» ( англ .).
«Writings», 1896,V I, p. 129.
«Неблагодарный нищий», «Горный старец», «Неподкупный» ( франц .).
«Душа Наполеона» ( франц .).
«Что есть высший разум?» – вправе спросить читатель. У любого теолога готов ответ на этот вопрос; я ограничусь примером. Следы, которые человек оставляет во времени, от дня своего рождения до смерти, складываются в некий непостижимый рисунок. Божественный разум столь же отчетливо видит этот рисунок, как мы – фигуру треугольника. Этому рисунку (быть может) уготована некая роль в гармонии мироздания.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу