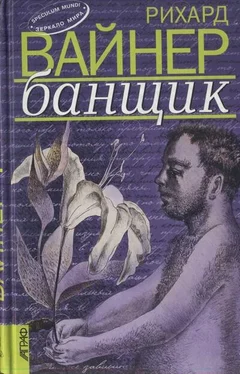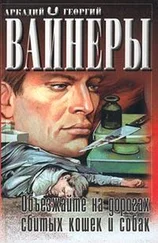Он устремил на меня взгляд, исполненный страстности, и это была не застывшая, бездеятельная страстность, но страстность бурная, кипучая, внушенная страданием настолько глубоко прочувствованным и неземным, что этот взгляд смутил меня. По-видимому, мой собеседник заметил это. Ибо вдруг умолк и прикрыл глаза рукой. Как ни странно, этот жест пробудил во мне равнодушие к его рассказу.
Потом он продолжал:
— В том отделении банка, где я работал, была одна стенографистка. Звали ее Хелена. Наши деловые отношения вскоре переросли в отношения более личные; я часто провожал ее домой, ибо нам было по пути. В конторе ей нравилось производить впечатление дамы с художественным вкусом и склонностью к искусству, выйдя же на улицу, она вживалась в образ дамы света. В обоих этих ипостасях она вела себя весьма ловко; до некоторой степени она представляла собой то и другое одновременно: по вечерам она иногда пела в хоре театра оперетты, а иногда исполняла небольшие сольные партии в его спектаклях. Я был молод и по своим инстинктам оставался, видимо, настоящим крестьянином. Однако Хелена с помощью своих инстинктов — проворных и испорченных — распознала в моих речах юношескую тоску, а так как я ей понравился, то она захотела, чтобы мои мечты сбылись. Она вовлекла меня в свой круг. Театральное закулисье, хмельное застолье после спектаклей и кутежи в ночных ресторанах. Вы, конечно же, можете вообразить себе людей, с какими я тогда сталкивался. Среди них встречаются представители почти всех профессий с самыми разнообразными пристрастиями, прихотями и отклонениями. Сейчас мне придется рассказать вам кое-что такое, что прозвучит, как отвратительная исповедь. Признаюсь, однако, что мне гораздо легче говорить об этом, чем обо всем прочем, ибо в данной области я давно уже обрел уверенность в себе. Я, видите ли, бываю подвержен сильнейшим страстям, но я не имею в виду муки любви — если говорить о любви с большой буквы. Мне требуется аффект — обязательно, но будет ли его предметом женщина или мужчина, мне безразлично. Или лучше сказать — учитывая мой ярко выраженный нарциссизм, — мне одинаково приятна благосклонность мужская и женская. И любовь, и дружбу я воспринимаю как одинаково чистые, одинаково благородные чувства. Что ощущают при этом другие, меня не интересует. Я черпаю, сколько могу, из своего чувства. И спокойствие моей совести подсказывает мне, что я могу и имею право так поступать…
Короче говоря, — как-то раздраженно заторопился он, — я пользовался успехом. Отчасти, Людвик, но лишь отчасти важно, чтобы вы поняли, как долго не мог я постичь истинных целей мужской дружбы. Я не знаю, отказался ли бы я стать Рембо, если бы рядом появился хотя бы один-единственный Верлен. Ибо та небольшая книжка, что лежит тут перед вами… я считаю ее одной из прекраснейших на свете. Это молитва освобождения. Мне кажется, нет греха в том…
— Так значит, я не ошибался ни вчера, ни сегодня! — воскликнул я, глядя на него с отвращением и тревогой.
— Оставим это. Мне больно, что вы — вы! — воспринимаете все так прямолинейно.
И он продолжал — после паузы, в течение которой словно бы подготовил краткое и ясное резюме.
— Да, я получал предложения от женщин. Их я понимал сразу. Со мной любили вести беседы и мужчины — и суть этих разговоров доходила до меня очень медленно, слишком медленно, настолько медленно, что однажды было уже поздно. Хелена — порочная — развлекалась, сорила деньгами, поглядывала иногда на меня и — все узнала. Узнала? Наверное, ей просто захотелось поверить в это, ибо ей требовались все новые подстегивающие нервы возбуждающие средства. В конторе многие косились в мою сторону, подталкивали друг друга локтями, смеялись, шушукались. Все — но только не Артур. И он в конце концов — пришел!
— Достаточно! — вскричал я и вскочил. — Хватит с меня этой грязи! К чему вы клоните? Что вам нужно?
Но Черный повелительно повел рукой, и я снова сел в кресло, глядя на него едва ли не с ужасом, а он тем временем продолжал ровным и каким-то застывшим голосом:
— Пришел друг — ко мне, одурманенному, который до сих пор ничего не подозревал. Да, я стал принимать наркотики, хотя крепился довольно долго. Но тем не менее я все еще хорошо различал прекрасное и лишь манящее. Артур заметил это — и воспользовался. Друг! Я был ему другом, а Хелене — любовником. Горючая смесь моего тогдашнего окружения; пылающая смесь подавляемых чувств, из коих ни одного я не понимал до конца, ни одному не отдавался целиком, наполняла мою душу. Назойливая и непрестанная близость Хелены и Артура была вогнана в мои дни, точно заноза, и размеренность и упорядоченность привычной жизни оказались исцарапаны моим вторым существованием. Мот и кутила полонил чиновника и пытался переделать его по своему образу и подобию. В моей невероятно занятой жизни я не мог отыскать больше ни единой свободной минуты для себя самого; меня влек за собой тот второй, что внезапно пробудился во мне, и мы с ним вдвоем стали — фарисеем, находящимся в непрерывном движении. И однажды я понял: я болен исполненной мечтой. Да, Людвик, это был особый момент познания. Оказалось, что такая, именно такая жизнь, и являлась в мечтах молчаливому старательному мальчику. Он хотел этого — и обрел: совершенное воплощение. Мои дни были до краев залиты блаженством, блаженством — блаженством! О, Людвик, я купался в нем, но оставался сухим. Словно утка в воде. Взять, Людвик, хотя бы любовь Хелены: фривольная, небрежная, непоколебимая и трудная. Ведь это было как раз то, чего я всегда хотел. Иная любовь измучила бы меня, она казалась бы мне горькой и приносила одни неудобства. И все же что-то внутри меня желало, чтобы Хелена ревновала, следила за мной и требовала, чтобы я за нее боролся. А что касается дружбы с Артуром — она производила впечатление искренней и горячей. Мне казалось, что именно таким должен быть друг, могущий обогатить собой мою жизнь. И такого друга я заполучил. Но все же он постоянно стеснял меня. Ему следовало бы быть чуть больше другом и чуть меньше надсмотрщиком… а еще я сделал великое открытие: у меня нет сердца. Я не в силах дать и не в силах что-то требовать. Ничто и никто не заставит меня звучать в унисон. Я подпитываю сам себя. Я для себя — вселенная. Вот почему мне и удавалось так долго вести двойную жизнь! Страстные мечты, которым не суждено было стать явью? Смешно! Холодное воодушевление отвлеченным чувством. Отвлеченным от человека и сердца. Холодное, невесомое чувство — нечто наподобие эфира. Какое это замечательное открытие, Людвик!
Читать дальше