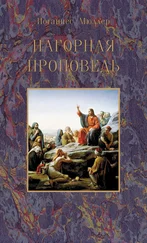— Ах, — вздохнула мама, — опять он не так подает руку. Он никогда не научится как следует здороваться.
Вдруг ей пришла в голову мысль, чтобы я сегодня зашел еще к обер-пострату Нейберту и передал ему наши новогодние поздравления. А я навострил уши, стараясь понять, кто же этот господин, который все посмеивается «хе-хе» и после каждого смешка поглаживает усы, как будто вытирает рот салфеткой. Обе нары никак не могли расстаться. Отец и господин в цилиндре беседовали о каком-то процессе, я уловил фамилию Кнейзель; это был, но их общему мнению, «отпетый негодяй»; мать и маленькая круглая дама болтали о выставке; обе они находили, что в картине Штука изумительно много фантазии и она прелестна по колориту. Они уже несколько раз прощались и долго трясли друг другу руки, но затем вспоминали еще какую-нибудь новость, и все начиналось сначала. Вокруг постепенно скоплялась публика, так как гуляющих становилось все больше, а пройти мимо нас можно было только с трудом. Мне было неловко, потому что многие оборачивались и отпускали по нашему адресу замечания. Я отошел на несколько шагов и остановился, теребя пуговицы на своем пальто. Наконец мы откланялись. Мама дернула меня за рукав:
— Видно, и Новый год тебе нипочем, ты совершенно не умеешь себя вести. Когда наконец ты выучишься хорошим манерам?
— Кто этот господин и что это за процесс, про который вы говорили? — спросил я, повиснув на руке отца.
Но мать не дала ему ответить.
— Что за несносное любопытство! Хотя бы ради Нового года ты прекратил свои вечные расспросы!
Из разговора родителей я понял, что незнакомый господин-судья Мауэрмейер, входил когда-то в одну студенческую корпорацию с отцом; к Новому году его из Бамберга перевели в Мюнхен.
Я убедился, что самое трудное в моем намерении исправиться и начать новую жизнь — это победить любопытство. Легче уж, пожалуй, не врать и никогда больше не приносить плохих отметок. Но отказаться от привычки шарить в погребе и в кладовой, рыться в отцовском портфеле и заглядывать в тетрадку, куда Христина записывала расходы, — это было свыше моих сил! Сегодня утром, например, пока родители спали, я успел просмотреть новогодние поздравительные карточки, а потом, выбрав из корзины для бумаг все клочки, сложил их один к одному, — хотя разобраться в них я все равно был не в состоянии. Я не мог видеть ни одного шкафа, ни одной шкатулки, чтобы не исследовать их до самых потаенных уголков. Если сквозь дырочки в почтовом ящике белел конверт, я, сгорая от нетерпения, бежал за мамиными ножницами и извлекал письмо точно так же, как извлекал из копилки пфенниги. Вот это и были мои тайные проделки, и я боялся, что они раскроются на Страшном суде. А ну как обнаружится, что мне точно известно, куда отец прячет ключи от письменного стола! Как только меня оставляли дома одного, я отпирал все ящики, и не было такой бумажки, которая не побывала бы у меня в руках. Нет, новый век не представлял бы для меня решительно ничего интересного, если бы мне пришлось распроститься с любопытством и отказаться от моих тайн; чем бы эти тайны мне ни грозили, они были моей собственностью, которой я распоряжался как хотел, которая принадлежала мне одному…
Я прикинулся усталым, чтобы вынудить родителей поскорее вернуться домой, — мне не терпелось узнать, что там с Ксавером; его храп, словно в насмешку, звучал у меня в ушах.
Мама вздохнула, и тогда отец заворчал:
— Ив Новом году все то же! Как гулять с родителями — ты устал, а бегать целыми днями по улице и без конца шалить — тут ты неутомим. Удивительно, а?
И верно, каждое воскресенье повторялось одно и то же: стоило нам выйти из дому на послеобеденную прогулку, как на меня тотчас же нападала неудержимая зевота, и я, идя рядом с родителями, еле волочил ноги.
Мы миновали Китайскую башню, которая тоже осталась на своем старом месте, постояли наверху у Моноптероса, глядя, как салазки съезжают с невысокого холма, и все трое пожалели, что не поехали в Эбенгаузен покататься с гор.
Во дворе я замешкался: мне хотелось посмотреть, не проснулся ли тем временем Ксавер.
Сторожка Ксавера уже не сотрясалась от храпа.
В каморке было тихо.
Я вздохнул с облегчением, когда увидел, что Ксавер, по крайней мере, мундир с себя снял. Мундир висел на спинке стула, а сапоги стояли рядом. Пуговицы на мундире поблескивали, отражая свет уличного фонаря, который проникал в каморку.
Мне приснился мундир Ксавера. Он был весь в пятнах. Я чистил его щеткой. Но чем больше я чистил, тем безобразнее выступали пятна, черный воротник и манжеты с каждой минутой лоснились все больше, а сукно от усиленной чистки уже начинало просвечивать. И пуговицы, сколько я ни тер их носовым платком, ни за что не хотели блестеть. «Ты мне весь мундир испакостил», — хныкал Ксавер. Лошадь, грустно кивая, выглядывала из конюшни, султан топорщился на шкафу, а сабля на стене задумчиво покачивалась. Тут я увидел старомодный бабушкин шкафчик. Шкафчик открылся, и гляди-ка — он был доверху набит блестящими десятимарковыми золотыми. И я купил самых дорогих синих чернил, а для воротника и манжет — густой черной туши и выкрасил мундир Ксавера, а пуговицы отполировал знаменитым средством «сидоль» так, что они блестели даже ярче, чем вчера вечером при свете уличного фонаря. Лошадь в конюшне ржала от радости, султан на шкафу развевался, сабля на стене весело бряцала. Ксавер улыбался во весь рот; он немедленно облачился в свой чудесный мундир и обещал мне больше никогда не марать его и носить с честью.
Читать дальше