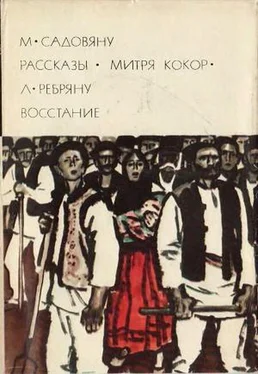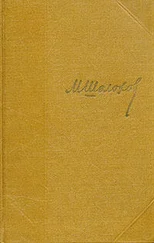— Они убили ее и сбросили в колодец… — еле выговорил я.
— Кого сбросили, кого? — спросил дед Иримия.
Я был уже не в силах ответить. Из-под платка снова хлынула кровь: она стекала по усам и попадала мне в рот. И мне казалось, я чувствовал на вкус ту кровь, что залила камень колодца.
Когда капитан Некулай закончил свой рассказ, солнце уже село за горы и над долиной Молдовы и постоялым двором распростерлась мгла. Огонь потух. Мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, сидели молчаливо и печально. Только конюший Ионицэ что-то бормотал и высокомерно посматривал вокруг себя. Молодая Анкуца проговорила:
— Вот и мне мать когда-то об этом рассказывала. Два других цыгана убежали и скрылись в лесу…
— Да, так-то… Вот какие дела бывали во времена нашей молодости… — гордо подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.
Вскоре и я осмелился подать голос:
— А сохранился еще этот колодец с четырьмя тополями?
— Нет уж больше его, — тихо ответил дед Леонте, звездочет. — Разрушился, как и все в этом мире…
Но капитан, казалось, видел перед собой колодец. Сгорбившись и низко опустив голову, сидел он неподвижно на своем месте. На его правой сморщенной щеке и у выколотого глаза, казалось, навсегда застыла печать страданья. А живой его глаз, большой и мрачный, пристально смотрел вниз, в черный колодец прошлого.
Немного погодя, когда совсем стемнело, снова зажгли огонь. Капитан Исак поднялся, взял за руку Анкуцу и попросил для себя и для всех остальных еще по новой кружке старого вина.
— И правда, в старое время случалось такое, чего теперь и не увидишь, — медленно заговорил в вечерней мгле Енаке-коробейник.
Он еще, казалось, не мог опомниться после рассказа капитана Некулая Исака. Но все же голос его вернул нас к действительности. Ожидая Анкуцу с новыми кружками и свежим вином, мы разговорились, ближе знакомясь друг с другом. Из долины Молдовы налетел легкий ветер. Я придвинулся к костру и подбросил сухого хвороста в огонь, задремавший под своей пепельной шубкой. Когда взвились яркие языки пламени и мы снова увидели друг друга, ветер утих, легкий осенний туман окутал нас и весь постоялый двор.
— Теперь уж нет таких людей, как были когда-то, — продолжал коробейник Енаке, а конюший Ионицэ в знак согласия кивнул головой. — Другой народ теперь пошел, хилый.
— Что верно, то верно! — проворчал рэзеш из Дрэгэнешть.
— И зимы тогда суровей были, — решительно заявил коробейник, поднося к огню глиняную трубку с медной крышечкой. — Вот эту шубу ношу я с тех пор, а зимою мне теперь с ней делать нечего. Таскаю ее на плечах только для важности. Да, могу вам доложить, капитан Некулай и конюший Ионицэ, ведь и лето тоже тогда было щедрее. И по городам не было всех этих пришельцев, что пооткрывали новые лавчонки, а по селам нас, коробейников, все тогда привечали, как лучших друзей. Теперь же клони голову пониже да с товаром тащись повыше — в горы. Только там и есть места, где люди не видали еще ярмарок, а девки так и цветут от радости, когда раскроешь короба. Раньше и в бога-то по другому верили. Ходили купцы в Ерусалим, и нисходила на них благодать. Даже я сподобился пешком пройти до Святой горы. Видел я там скит на самой вершине — православных монахов поднимали туда и спускали оттуда воротом в плетеной корзине, потому что никакой дороги там нету. А у нас, в Яссах, был господарев двор, и порядки были там совсем не нынешние. Вот выезжает господарь из дворца, — черный аргамак под ним пляшет, кругом телохранители, а простой народ падает ниц: спину кверху, лицо в пыль. Хотел тебя боярин пожаловать, так не крейцер давал, а целый золотой. Был я в ту пору молод, и радостно было мне жить, не то что теперь. Забот я не знал, мошна за поясом никогда у меня не пустовала. Но вот однажды, когда собирал я короба, чтобы идти на ярмарку в Байя, в горы, случился в нашем городе Яссах большой переполох.
Попрошу вас только подождать немножко, пока набью трубку табачком, потому что, кроме всего прочего, грешу я и этим перед господом богом. И прочищу чубук, потому что у сатаны только и дела, что чубуки забивать, — возблагодарим же владыку небес, земли и моря, что смилостивился он и научил нас смастерить шило. Так вот, надо вам сказать, стоял я как-то на улице у караван-сарая и рядился с двумя купцами армянами, как вдруг со стороны Бейлика показался с великим шумом отряд арнаутов, а среди них какой-то связанный человек. Народ за ними так и валит, и все больше женщины да ребятишки. Выскочили собаки из подворотен и из-под купеческих навесов, — вой, лай. Купцы, оставив свои прилавки, сбились в кучу, борода к бороде, глаза пялят, расспрашивают. Все арнауты шли с кинжалами и ружьями наготове, словно боялись, как бы связанный человек не порвал путы и не повалил бы их наземь голыми руками. Пленник и вправду был человек высокий и, видать, сильный: в поясе тонкий, а в плечах косая сажень. Усы у него русые, глаза черные и взгляд неукротимый. Была на нем расшитая куртка и красные сапоги с раструбами, как у справного рэзеша. Голова непокрыта, и губы в кровь разбиты.
Читать дальше