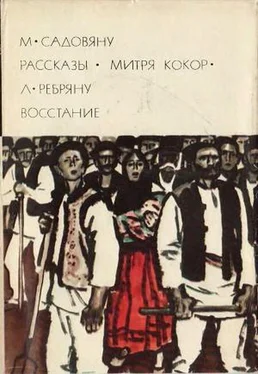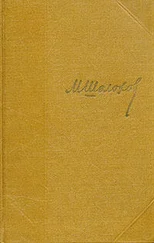— Друзья мои! — громко провозгласил конюший Ионицэ и поднялся во весь свой высокий рост. — Перед господом богом сознаюсь, что от истории благочестивого отца Германа у меня под шапкой волосы дыбом встали, но я хочу вам рассказать историю еще более поразительную и страшную.
— Послушаем рассказ конюшего, — проговорил торопливо, как всегда, дед Леонте, звездочет. — Послушаем рассказ почтенного конюшего! Посмотрим, наготове ли у нас все нам потребное, и станем слушать. Мне как раз очень хотелось попросить тебя, конюший Ионицэ, сдержать свое обещание. С той поры, как я себя помню, еще со времен прежней Анкуцы, у нас так повелось — собираться здесь на беседу и проводить время за вином из Цара-де-Жос. Потягивая доброе винцо, слушаем мы о делах давно минувших. Думается мне, почтенный конюший Ионицэ, не найдется другого постоялого двора, подобного этому, сколько ни ходи по земным дорогам. Таких стен, похожих на крепостные, таких решеток, такого погреба и вина такого в других местах и быть не может. Не встретить нигде ни такого радушия, ни такого веселья, ни подобных черных глаз: так бы и остался я под их взглядом, пока не придет мой черед отправиться в тихую пристань, откуда нет возврата… А ты не хмурь брови, хозяюшка, потому что я был другом твоей матери. И ей я тоже читал будущее в книге Зодиака, как и тебе читал. Очень хорошо и очень правильно я ей все поведал и думаю, что и ты осталась довольна.
— Да, и я была довольна, — смеясь, ответила Анкуца.
— Оно и понятно, по-иному и быть не может, хозяюшка; ведь в этой вот сумке, у меня на боку, лежит древняя книга, в которой только правда написана. Когда ты меня спрашивала, я тебе рассказал все как положено — тем более потому, что исходит от тебя запах чабреца и ты заставляешь стариков желать сызнова юности.
— Весьма справедливо это, — подтвердил рэзеш из Дрэгэнешть, — да я мог бы это сказать и без книги Зодиака.
— Возможно, конюший Ионицэ, но прошу тебя не забывать своего обещания. Как я говорил, подобные истории только на таком постоялом дворе и можно услышать. Выслушали мы отца Германа, который опять замкнулся в свою печаль и умолк. Не знаю я, конюший Ионицэ, сможешь ли ты рассказать нам что-нибудь более страшное. По правде говоря, только еще один раз в жизни колотилось так мое сердце, — словно куропатка в когтях сокола.
Хозяйка взглянула на старика своими блестящими глазами и торопливо сказала:
— Это когда ты в первый раз увидел змия, дед Леонте?
— Вот-вот, — подтвердил старик, — когда в первый раз увидел змия.
Мы все разом повернулись к звездочету, и даже отец Герман взглянул на него из зарослей своей бороды.
— Что это ты, братец, о змие болтаешь? — взволнованно спросил конюший Ионицэ и уселся на свое место. — Какой змий? — И он искоса с недоумением посмотрел на всех, словно только теперь нас заметил.
— Когда увидал я в первый раз змия… — заговорил спокойно дед Леонте, — был я парнишкой, годов этак за двадцать, и отец мой учил меня своему ремеслу: ведь он тоже был звездочетом и лекарем, какого на всем свете не сыщешь. И после Ильи-пророка обретались мы с ним при овцах на холме Болындарь, и он мне показывал днем травы и коренья земные, а ночью звезды небесные. Тогда-то и увидел я в первый раз змия.
Рэзеш из Дрэгэнешть глубоко вздохнул и посмотрел на деда Леонте, как на врага.
— Такого чудовища я еще не видывал, — признался он, и голос его прозвучал слабо и неуверенно. — Рассказывай скорее, дед Леонте, времени у нас хватит.
— Долго мне говорить нечего, — отвечал звездочет, — поведаю только, что сам я видел. С позволения конюшего Ионицэ, я все вам расскажу, а потом мне хочется послушать его историю…
Дед Леонте поправил пояс, ощупал сумку и посмотрел вокруг, чтобы удостовериться, что кружка с вином под рукой. Дед был наш земляк, крестьянин с Молдовы, чисто выбритый, с седыми усами, полным лицом, статный собой и с брюшком. А когда говорил и смеялся — виднелись крепкие, словно стальные, зубы.
— Пока есть у меня такая мельница, — кричал он, бывало, подвыпивши, — не боюсь я и самой смерти длиннозубой!
Дед Леонте начал, по своей привычке, скороговоркой:
— Ну, как это рассказать тебе побыстрее про этот случай, почтенный конюший? — проговорил он. — В те времена жил у нас в Тупилаць знатный и гордый боярин, и звали его Настасэ Боломир. Был он высокий, угрюмый, а борода большая, словно павлиний хвост, всю грудь ему закрывала. К тому времени он уже двух жен погубил. Первый раз он взял боярскую дочку из Бырлада, но она недолго могла выдержать его лютый и жестокий нрав и вернулась больная и вся в слезах к своим родителям. А второй раз женился он на вдове одного грека — Негрупунте — красивая была эта женщина и богатая. Возложил поп венцы на их головы, да не прошло и двух лет, как однажды осенью увидел я ее желтой и увядшей, словно морозом побитой. Поехала она по докторам заграничным, да там и умерла. Остался наш боярин на время одиноким, и прошел про него слух, что жены у него мрут. Были в селе женщины красивые, да глупые, которые как только его увидят, так и отплевываются, словно от нечистого. Отец даже говорил в шутку, что теперь уж боярин Настасэ Боломир умрет вдовцом, а тому что за горе, когда двор у него полон молодых цыганок!.. Так время и шло, только вдруг слышим — женится боярин снова. Как так? Не то на какой-то вдове из жарких стран, не то на московитской княгине, что ходит в юфтовых сапогах и с нагайкой: только такая женщина ему и под пару… А вышло-то совсем не то. Отправился он в Яссы, обвенчался в самом главном соборе и привез в Тупилаць в коляске, запряженной четверней, девчушку годков этак семнадцати. Как стали они подыматься на крыльцо, головка ее чуть до бороды ему достает. Была она вся беленькая, а смеялась — словно солнышко сияло. А бабы у ворот и у людской плакали по ней и причитали — уж какая, мол, она махонькая, какая красивая, а бородач ее также погубит. Боломир взял ее осторожно, словно бесценное сокровище, за два пальчика левой руки и повел по каменным ступеням, застланным ковром. Только не довел он ее доверху; повернулась она к нему, засмеялась, мотнула головкой, будто рожками боднуть хотела, вырвалась от него и одна побежала вперед.
Читать дальше