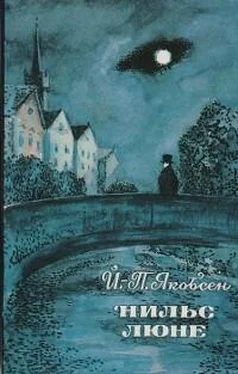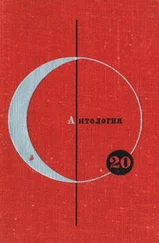К весне они поженились.
Нильсу Люне казалось, что мир сделался бесконечно прост и ясен, жизнь понятна, а счастье близко и достижимо, как воздух, который он вдыхал.
Он любил ее, доставшуюся ему молодую жену, со всем благородством мыслей и сердца, со всей нежной заботой, какие даются мужчине, узнавшему, что любовь склонна убывать, и верящему, что она способна расти. Он берег юную душу, льнувшую к нему с предельным доверием, жавшуюся к нему с той ласковой надеждой, с той твердой убежденностью, что он может желать ей только добра, с какой ягненок в притче ест с руки своего пастуха и пьет из его кувшина. У него не хватало духу отнять у нее Бога, изгнать белые хоры ангелов, день целый парящих за облаками, а ввечеру сходящих наземь и порхающих от ложа к ложу, полня тьму невидимым охранительным светом. Как не хотелось ему, чтобы его тяжелое миросозерцание заслонило от нее синь небес и лишило радости и покоя! Но нет, она хотела делить с ним все; ни на земле, ни на небе не соглашалась она оставить ни местечка, где б расходились их пути, и, как ни остерегал ее Нильс, она отклоняла все его старания если не прямыми словами жены маовитской, то содержащейся в них упрямой мыслью: «Народ твой будет моим народом и твой Бог — моим Богом». И тогда он взялся доказывать ей, что все боги — суть порождения человека и, как все человеческое, пройдут, род за родом, ибо человечество вечно развивается, меняется и перерастает собственные идеалы. И Бог, не вобравший в себя духовных богатств человечества, не живущий светом человеческого разума, а светящий сам по себе, Бог, не знающий развития, окаменелый в догмах, — уже не Бог, но идол; оттого–то иудейство одержало верх над Ваалом и Астартой, а христианство одолело Юпитера и Одина, ибо идол — ничто. От бога к богу человечество шло вперед, потому–то Христос мог, во–первых, сказать, обращаясь к старому Богу, что пришел не нарушить закон, но исполнить, а во–вторых, указать на высший его самого идеал божества в словах о единственном грехе, какой не простится, — хуле на Духа Святого.
Еще объяснял он ей, что вера в личного Бога, который карает и награждает в иной, будущей жизни, — всего лишь бегство от безжалостной яви, бессильная попытка смягчить безнадежную произвольность земного удела. Он доказывал ей, что заглохнет сочувствие к обиженным, исчезнет готовность жертвовать всем ради помощи им, если успокаивать себя мыслью о том, что краткие земные страданья — всего лишь путь к вечному блаженству и славе.
Он доказывал ей, как сильно и независимо сделается человечество, уверовав в себя и живя в созвучии с тем, что каждый ценит в себе в счастливейшие мгновенья, не приписывая в том заслуги бдительному божеству. Он старался представить свою веру прекрасной и благословенной, но и не скрывал, как мучительно тяжела и безотрадна правда атеизма в горький час в сравнение со светозарным сном о Вечном Отце, которому дано вязать и разрешать.
Она была мужественна; конечно, многие из его проповедей уязвляли ее, и часто тогда, когда он меньше всего этого ожидал, но доверие ее к нему не знало границ, любовь ее летела за ним, забывая небеса, и заменяла ей убеждения. Когда же новое уже стало ей привычно, она сделалась нетерпима в высшей степени, как часто случается с учеником, горячо любящим учителя. Нильс даже выговаривал ей за это, но она простодушно считала, что, если их мнение истинно, — другое непременно мерзко и достойно хулы.
Три года жили они счастливо, и немало счастья излучало личико мальчика, появившегося на свет на второй год после женитьбы.
Обыкновенно счастье делает человека лучше, и Нильс честно старался жить благородной, доброй и полезной жизнью, чтоб мм обоим не останавливаться в росте, чтоб душа их росла и росла до идеала человека, в который они верили оба. Но уже ему и в голову не являлась мысль нести людям знамя идеи; ему довольно было самому за нею следовать. Случалось, он вдруг нападал на свои старые опыты, но только недоуменно спрашивал себя, неужто он сам написал эти прекрасные, законченные строки, и всякий раз собственные стихи вызывали у него слезы, но ни за что не поменялся бы он местами с тем бедолагой, который их сочинил.
Вдруг весной Герда слегла и уже не встала с постели.
Рано утром — в последнее утро — Нильс сидел с ней рядом. Вставало солнце и набрасывало красный отблеск на белые шторы, между тем как рассвет, сбоку проникавший в окно, был еще синь и синил тени на складках простыни и под бледными, тоненькими руками Герды. Чепчик соскользнул с волос, лицо у Герды запрокинулось, совершенно изменившееся, странно неприступное, утончившееся от болезни. Она шевельнула губами, словно от жажды, и Нильс схватился за стакан с темным питьем, но она отрицательно покачала головой. Потом вдруг повернулась к нему лицом и стала с усилием всматриваться в его глаза. Глубокую печаль и отчаянье читала она по ним, и ее тоскливое предчувствие гало страшной уверенностью.
Читать дальше