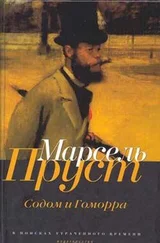Поднимаясь к себе в комнату, я с грустью думал, что мне так и не удалось выбраться к комбрейской церкви, которая словно бы ждала меня среди деревьев, в залитом фиолетом окне. Я говорил себе: «Ладно, как-нибудь в другой раз, если доживу», не видя других помех, кроме собственной смерти, и не представляя гибели церкви, которая, как я считал, простоит там столько же лет после моей смерти, сколько она стояла там до моего рождения.
Но однажды я все-таки заговорил с Жильбертой об Альбертине и спросил, любила ли та женщин. «Что вы…» — «А когда-то вы говорили, что она была дурного тона». — «Я так говорила? Вы ослышались, наверное. Но даже если я что-то такое рассказывала, то вы всё перепутали, речь шла об интрижках с юношами. В том возрасте, вероятно, далеко дело не заходило». Жильберта сказала так, чтобы скрыть, что она сама, как утверждала Альбертина, не чуждалась женщин и досаждала ей своими предложениями? Или же (нередко люди знают о нашей жизни больше, чем мы допускаем) она знала, что я любил, что я ревновал Альбертину (люди могут знать больше, против наших допущений, и ошибаться, злоупотребляя домыслами и слишком далеко заходя с предположениями, — тогда как мы рассчитываем, что они далеки от истины по причине отсутствия догадок как таковых), и обманывала меня, ревнивца, по душевной своей доброте — думая, что я до сих пор ее люблю? Так или иначе, слова Жильберты, начиная с прежних о «дурном тоне» и кончая сегодняшним сертификатом благопристойности жизни и нравов, соответствовали обратной последовательности утверждений Альбертины, которая фактически, в конечном счете, призналась в интрижке с Жильбертой. Эти слова Альбертины, как и рассказы Андре, поначалу вызвали у меня удивление, потому что всю их стайку, еще с девушками не перезнакомившись, я считал развращенной, а затем убедился в ложности первых догадок, — такое случается иногда, если вполне порядочная особа, почти ничего не сведущая в реальностях любви, замечена нами в обществе, по ошибке сочтенном весьма порочным. Затем я прошел по этому пути в обратном направлении, заново приняв на веру исходные допущения. Но, быть может, Альбертина сказала так, чтобы продемонстрировать мне свою опытность, чтобы оглушить меня в Париже авторитетом своей порочности, как некогда в Бальбеке — авторитетом своей добродетели. А всё для того, чтобы показать, когда я заговорил о женщинах, которые любят женщин, что о чем-то таком она уже слышала, — так некоторые люди, если разговор заходит о Фурье или Тобольске, изображают понимание, еще не представляя, о чем речь. Наверное, она жила с подругой мадемуазель Вентейль и Андре, отделенная от них глухой стеной, а те считали, что она «не такая» [16], и, ничего не узнав потом, чтобы угодить мне, — как невеста писателя, стремящаяся повысить общую культуру, — старалась отвечать на мои вопросы, пока не поняла, что я задавал их от ревности, и не «дала назад». В том случае, если не лгала Жильберта. Лгала из-за того, пришло мне на ум, что она-то ее к этому и пристрастила, в ходе флирта в ее вкусе, потому что она не чуждалась женщин, и потому Робер на ней женился, предвкушая удовольствия, с ней не связанные, ибо он получал их в других местах. Ни одна из этих гипотез не была абсурдна, потому что девушкам вроде дочки Одетты, девушкам из стайки, было присуще такое разнообразие альтернативных склонностей, пусть не одновременных, они так легко совмещали их, переходя от связи с женщиной к большой любви с мужчиной, что определить реальную и господствующую страсть было тяжело.
Я не взял у Жильберты «Златоокую девушку», поскольку она эту книгу еще читала. Но в последний вечер, проведенный в ее доме, она дала мне полистать перед сном другое сочинение, которое вызвало во мне живое, хотя и смешанное чувство, — впрочем, ненадолго. То был неизданный том дневника Гонкуров [17].
И когда, еще не затушив свечу, я прочел страницы, приведенные ниже, отсутствие во мне словесного дара, о чем я догадывался на стороне Германта, в чем уверился в этот приезд — в последний вечер предотъездной бессонницы, когда разбивается оцепенение гибнущих привычек, и мы пытаемся размышлять о себе, — не показалось мне чем-то очень горестным, возможно оттого, что глубокие истины литературе недоступны; и в то же время меня печалило, что литература оказалась не тем, во что я верил. С другой стороны, моя болезнь, которая вскоре приведет меня в больницу, теперь не вызывала во мне сожалений, потому что прекрасные вещи, описанные в книгах, оказались ничуть не лучше того, что я уже видел. Но по странному противоречию, теперь, когда о них рассказывала книга, мне захотелось еще раз на них посмотреть. Вот эти страницы, которые я читал, пока усталость не смежила мои веки:
Читать дальше