— Молодой человек, — сказал я, — твоя бабушка сошла с ума. — Я начал нервно вышагивать перед ним туда и обратно. — Мы должны попытаться помочь ей, бедняжке. Я понимаю, как ты должен страдать, видя, как она бродит, словно ягненок, которого лягнула лошадь, слыша, как она бормочет на своем чудном языке, — но мы должны проявить терпение и доброту и сделать то немногое, что в наших силах, чтобы обеспечить ее покой. Ты не мог бы связать ее и запереть в чулане или, может, замуровать в каком-нибудь месте с отверстием, через которое подают пищу?
Он опять улыбнулся.
— Она научилась этому от тебя.
Я возмущенно выпрямился.
— Ерунда. Все, что я предлагаю, — это тихую и безобидную неразбериху. — Потом: — Ты должен заставить ее сделать, как я говорю: убраться из Спарты. — Теперь я говорил серьезно, на тот случай, если он еще ничего не знает. — Сделай это ради меня.
— Нет, — простодушно ответил он, упрямый, как мул. — Идет революция.
Я вздохнул.
— Значит, ты уже подхватил эту заразу — ее безумие. Почему она не могла заболеть просто корью или, скажем, портовой чумой?
Он не ответил. (Никто мне не отвечает.)
— Я вернусь, — сказал он, — если смогу.
Я кивнул.
— Без сомнения, сможешь. Соседняя камера пустует. Его казнили.
Но он уже ушел. Он пробрался по снегу между деревьев без единого звука.
После его ухода я не мог спать или, во всяком случае, думал, что не могу, скорбя по ним — или по ней, или по себе. Но утром крысы, как обычно, покусали меня за пальцы, так что, значит, я все-таки уснул. Из этого можно извлечь урок. Любое человеческое чувство — это маленькое преувеличение.
Встав этим утром, Верхогляд не стал со мной разговаривать. Он негодует по поводу отсутствия пророческого всеведения. В молодости это нормально. Он подчеркнуто не обращал внимания на записку Ионы, которую я оставил на столе, а когда пришел тюремщик и я приветствовал его как старого друга, Верхогляд отвернулся и, сложив руки на груди, с деланным безразличием принялся рассматривать стену. Я поел. Он упрямо не подходил к столу. Мне была понятна его точка зрения, и, будь я помоложе, я мог бы ему посочувствовать. Но сейчас, когда я стар, болезнен, худосочен, мне нужно усиленно питаться. Покончив со своей порцией, я съел и вторую. Он остался стоек.
Ближе к полудню я сказал:
— Верхогляд, я должен продолжить рассказ, это моя обязанность.
Он рассмеялся, исполненный ярости и горя. С моей точки зрения, это тоже было замечательно. Определенно, я сделаю из него Провидца.
— Сядь. — Я говорил мягко, убеждающе.
Он сел. Я подтащил стул к дверному проему, где я мог сидеть спиной к слепящему снежному блеску, и, устроившись поудобнее, сказал следующее:
— Верхогляд, мальчик мой, как ты сам можешь видеть, я слишком, слишком стар, чтобы влюбляться. Это недостойно. И, я думаю, это противоречит моей философии. Тем не менее ты видишь перед собой любовника. Достоинство и философия — это для толпы.
Верхогляд засмеялся еще неистовее, чем раньше. Я подождал, пока он закончит (захлебываясь, вжимая голову между коленей и раскачиваясь вверх и вниз), потом продолжил:
— Я встретил ее много лет назад, когда моя жена еще была здесь со мной, в Спарте, и когда я еще был в прекрасных отношениях с Ликургом. В те дни он обладал меньшей властью — я удовлетворялся ворчливыми непристойностями на его счет или смеялся до слез над его высокопарными изречениями.
Следует пояснить, что я был привлекательным молодым человеком с живым складом ума. Это запаршивевшее, полное перхоти мочало, что нынче плещется у меня на месте бровей и непристойно разбрызгивается в мир с моего подбородка, было летнего, каштанового цвета: глаза были как северное сияние; каждая моя реплика благоухала. Я еще не был подвержен болезнетворным истечениям мира.
Он застонал и попытался залезть под кровать. Я решил изменить стиль изложения.
— Я собирался рассказать тебе, Верхогляд, об Ионе, женщине, которая прислала нам это письмо вчера ночью. Я намеревался обнажить перед тобой мои страдания и печали.
Его ноги остановились в нерешительности, и через мгновение он выполз из-под кровати. Он изучающе рассматривал меня, прикидывая, нет ли здесь подвоха, и затем с безнадежным вздохом уселся на край постели, как раньше.
— Твою мать, — сказал он без выражения, и даже его волосы, свисавшие чуть ли не до локтей, выражали подавленность и уныние. Вместо глаз были красные провалы.
Читать дальше
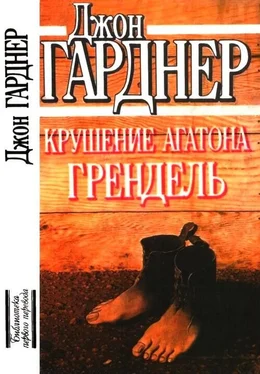






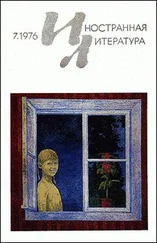
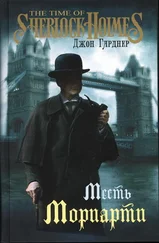


![Джон Скальци - Крушение империи [litres]](/books/413179/dzhon-skalci-krushenie-imperii-litres-thumb.webp)
