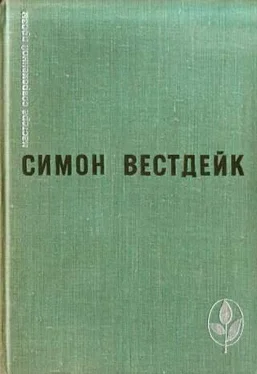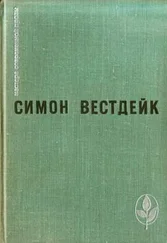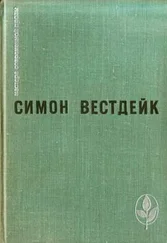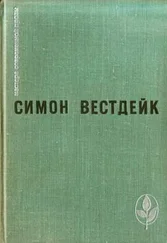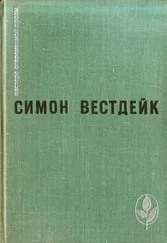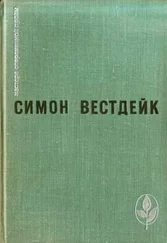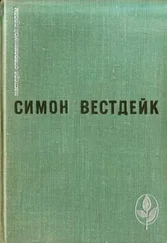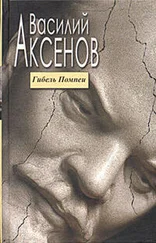Первое, что бросилось Кохэну в глаза, когда они вышли на Сингелский канал, была общественная уборная. Издав ликующий крик, он ринулся туда, увлекая за собой Яна.
— Настоящий амстердамский писсуар! Господи боже мой, как мне его не хватает, когда я по ночам стою возле нашей вонючей канавки! Ну и повезло мне! Как тебе нравится конструкция этого заведения? Великолепна, не правда ли? Точь-в-точь как раковина, которая целомудренно изгибается вокруг своего центра, раковина, поднявшаяся из вод Сингела и открывающаяся навстречу нашим водам. Самый настоящий, неподдельный писсуар на две персоны, не писсуар, а конфетка… тебе тоже нужно? Вот что, ты лучше обожди, чтобы не вместе. Нет, нет, нет, только не вместе… Тогда мы сможем дольше наслаждаться этой прелестью.
И Кохэн исчез в глубине уборной, а Ян ин'т Фелдт остался ожидать снаружи, мрачно глядя на канал. Через некоторое время он поглядел наверх и увидел сквозь железные прутья стоявшего к нему спиной Кохэна. Последний чувствовал себя в эту минуту на вершине блаженства, как сбежавший с уроков школьник, который самовольно устроил себе два дня каникул.
В то время как он с наивной откровенностью пользовался причудливо изогнутым сооруженьицем, перед его мысленным взором проходили картины ночной жизни Амстердама; воспоминания о студенческих годах, когда ночью, отяжелев от пива, они были готовы на убийство, лишь бы иметь под рукой такую вот завитушку, чтобы, упаси господь, не оскандалиться прямо посреди Дама, в непосредственной близости от фараона, обычно стоявшего на углу Ньювендейка.
Какие это были времена! Виват!.. Виват!..
У него вдруг появилось желание нацарапать на железной стенке озорные стишки — в память о прошедших временах. С карандашом в руке он стал придумывать рифмы, но в конце концов ограничился следующей надписью, выведенной прописными буквами: «А. Кохэн, еврей, обрезанный, справлял здесь свою нужду 5 сентября 1943 года, не имея при себе желтой звезды, и выражает свое сожаление по поводу того, что ввиду дефицита на пиво он не в состоянии обмочить всех вонючих мофов». Потом он частично привел себя в порядок, чтобы, как полагается истинному амстердамцу, завершить свой туалет уже на улице, и направился к выходу. Выйдя из уборной, он увидел, что Ян ин'т Фелдт исчез.
Это его не особенно удивило. Ян принадлежал к разряду тех парней, которым только и нужно, что получить на выпивку, а если от тебя больше ожидать нечего, они вероломно повернутся к тебе спиной. Но на всякий случай он еще раз осмотрел уборную, потом заглянул на канал, прошелся по галерее и по переулку, по которому они раньше шли. Яна ин'т Фелдта и след простыл. Пожав плечами, он застегнул брюки и направился к Херенграхту. О Яне он уже больше не думал. Некоторое время его занимала мысль, не возвратиться ли ему назад в уборную, чтобы присоединить к нацарапанному на стене имени Кохэна фамилию Кац, но, обернувшись, он увидел, что туда вошел толстый немец, после чего городское сооружение утратило для него всю свою прелесть. Зря не догадался он написать на стене: «Мофам вход воспрещен»; не было ничего, что бы эти бандиты не осквернили… Чем ближе подходил он к Херенграхту, тем больше жалел, что отрекся от своей второй фамилии, фамилии его отца, сожженного в печах фашистского концлагеря в Польше. Соломон Кохэн Кац, глава фирмы «Кохэн Кац и Фридлендер», о ней в свое время говорили, что это наиболее почтенная банкирская фирма той части Амстердама, где они жили; но все это не имело никакого отношения к истинным достоинствам его отца, это был отец, который дал ему беззаботную юность в этом самом Амстердаме, отец, который никогда ни единым словом не упрекнул его за разгульную жизнь и мотовство, который, уступая его настойчивости, согласился на его брак, купил ему дом, обстановку, а потом, когда брак все же оказался неудачным, тоже ни словом не упрекнул его, — и вот мерзкий фашистский сброд, самый гнусный сброд, какой когда-либо порождал мир, умертвил его отца газом…
Кохэн вытер глаза тыльной стороной руки и пошел дальше, в направлении Херенграхта, и для того, чтобы срезать кусок улицы, пересек ее прямо через проезжую часть, что было безопасно, все равно ведь никакие машины теперь по ней не ездили. На мосту он остановился. Прижавшись к перилам, он стоял и смотрел в сторону Лейдсестраат, и ему почудилось, что он видит (мигая, он тщетно пытался отогнать от себя это видение) отраженный в плывущих на воде листьях печальный обломок фронтона голландской архитектуры XVII века и в сплетении классических линий на этом обломке — очертания зверя, свободного, недосягаемого для пропагандистских плакатов и транспарантов НСД. Он еще крепче вцепился в перила, им овладело предчувствие, что стоит он здесь в последний раз и то, что с ним происходит, никогда не повторится, и он наклонился и не отрываясь смотрел в воды канала, хотя знал, что его подозрительное поведение привлекает к нему внимание прохожих.
Читать дальше