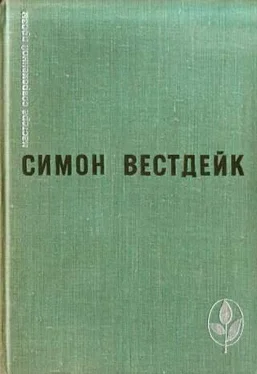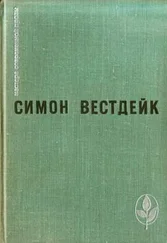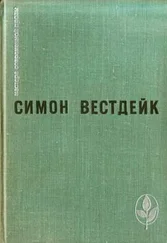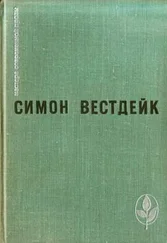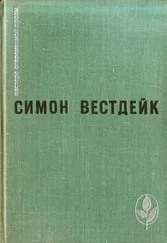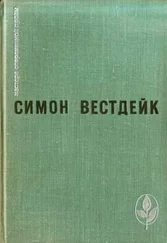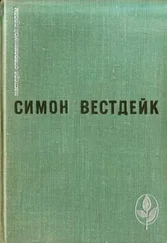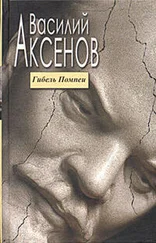— Пит! — прошептал он, нарушая молчание. — Пит Пурстампер. Вот так дела, господа. Пурстампер изменил своим нацистским принципам.
Остальные были слишком подавлены, чтобы разговаривать. Ван Дале высунулся из машины и проговорил с иронической усмешкой:
— Ну, что вам еще известно о Пурстампере?
— Через три часа я даю ему урок, — сказал Схюлтс, с трудом удерживаясь от смеха.
Баллегоойен откашлялся.
— Пита трогать нельзя. Давайте лучшие отложим до следующего раза. Мой сын всегда повторял: никогда не теряться, если…
— До какого это следующего раза?! — возмутился Эскенс. — Черт побери! Я иду один, если вы испугались. Я накажу его в его же собственном логове…
Ван Дале, насторожившись, вышел из машины.
— Нет, Флип, — убеждал Валлегоойен, положив руку на плечо Эскенса. — Так нельзя, уж не хочешь ли ты поднять на ноги весь дом? Надо сначала все обсудить…
— Обсудить! Вот это занятие как раз для тебя. Для другого ты слишком слаб…
— Перестаньте, хватит, — остановил их Хаммер.
— Садитесь, господа, — предложил Ван Дале, — В машине удобнее обмениваться мнениями. Нечего стоять тут с револьверами в руках… Садитесь, и без разговорчиков…
Ван Дале загнал всех в машину и повернул обратно к гаражу.
Не страх удержал Пурстампера от выполнения своего еженедельного долга и заставил возложить этот долг на младшего сына Пита. Вероятно, сильный понос, уложивший его в постель — ибо он лежал в постели, — можно объяснить и страхом. Он сам допускал такую возможность. Но, учитывая, что вчера вечером он дрожал не больше, чем четыре дня тому назад, когда узнал о судьбе Хундерика, и что этот понос прохватил его, как обычно, ровно через месяц после предыдущего, он пришел к выводу, что хотя он действительно боялся, но все же не в такой степени, чтобы этот страх отражался на его желудке. Страх тут ни при чем: обычное расстройство желудка, которого нечего стыдиться. Порошки танина, теплая грелка, ночные заботы жены будут ему гораздо полезнее, чем попытки не думать о Хундерике. Доставку газеты пришлось поручить Питу, но он не чувствовал за собой никакой вины.
Он лежал с урчанием и резями в животе, прислушиваясь сначала к звуку удалявшихся шагов, потом к щебетанию птиц и к возне жены в соседней комнате (опять она затеяла уборку). Драма Хундерика, естественно, не оставляла его в покое. Образно говоря, там тоже произвели генеральную уборку: схвачены нелегальные, которых он и не думал выдавать; Мария в больнице, нервнобольная, а может быть, и неизлечимо безумная; Бовенкамп за решеткой. Женитьба Кееса откладывается на неопределенный срок, и он чувствовал настоятельную необходимость предпринять шаги, чтобы забрать Кееса из СС, где ему действительно очень не нравилось: орут с утра до ночи, выматывают всю душу… Но пока важнее всего, чтобы его не сочли виновным в случившемся. Хотя слухи, распространявшиеся в некоторых кругах, еще не дошли до него, он допускал возможность, что Мария проговорилась, Мария, не знавшая, что он не воспользовался ее сообщением. Но как доказать свою невиновность тем, кто подозревал его? Набраться смелости, пойти к местным подпольщикам и сказать: «Я тут ни при чем, господа подпольщики. Я паинька»? Но кто выдал немецкой полиции Пита Мертенса, того самого Пита Мертенса, который сидит теперь в Фюхте или в Амерсфоорте, если еще не расстрелян? Кто неоднократно сообщал немцам сведения, на основании которых должны были проводиться облавы? То, что эти облавы ни разу не проводились из-за сговора между бургомистром и Зауэром, подпольщики не сочтут смягчающим обстоятельством. А кто приволок старого Яна Звервера к мировому судье лишь за то, что тот с ценавистью посмотрел на него на улице и обозвал предателем? Это далеко не геройские поступки, и сам Пурстампер считал их мышиной возней в сравнении с гигантской борьбой на Восточном фронте. Но ничего не поделаешь, имелся приказ терроризировать и провоцировать, и если энседовца не называли «предателем родины», если он ни разу не донес на подпольных радиослушателей, если ни разу не нарвался на скандал при еженедельном распространении энседовской газеты, то он не мог считаться полноценным членом НСД. Правда, после ареста Муссолини на партийных собраниях стало немного потише, и немало нашлось слабохарактерных людей, пытавшихся удрать в кусты. Он не из таких. Он почти твердо убежден, что не такой: пусть он бабник и неудачник, который был прирожденным врачом, а стал всего лишь хозяином аптеки, и никудышный отец, если додумался спрятать своего Кееса в CС (Пурстампер горько улыбнулся, когда слово «спрятать» пришло ему в голову), однако флюгером и трусом он никогда не был, даже злейший враг не скажет о нем этого, а врагов у него хватает, бог свидетель: все против одного. Но какой смысл получать пулю в живот за то, чего не делал? С какой-то особой нежностью думал он о своем животе, в котором все еще слегка бурлило: ему хотелось, распростерши над ним руки, защитить его от крайне маловероятной опасности понести наказание за драму в Хундерике.
Читать дальше