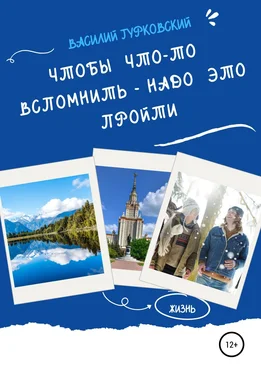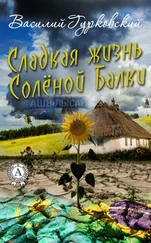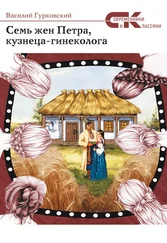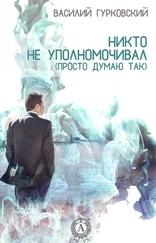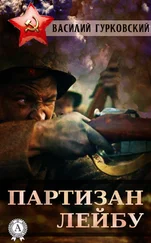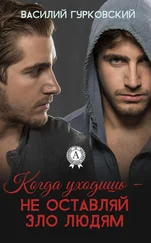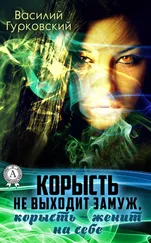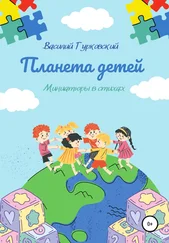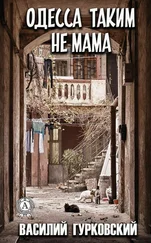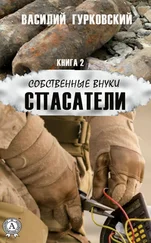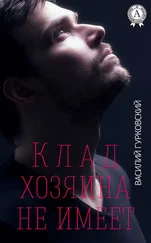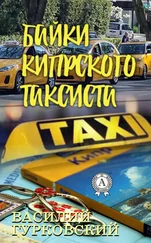А ведь так оно и есть. Сколько только в Казахстане, да и республиках Средней Азии, таких мест? И везде живут люди, что-то делают, что-то выращивают, а мы, в большинстве своем, и не знаем, какой ценой добывается тот же килограмм шерсти, стараемся любым путем уничтожить свое, вековое, в угоду чьим-то конъюнктурным интересам. И разве только о шерсти идет речь? Уже нет кроликов и нет пчел, нет рыбы и коконов, нет лошадей, овец и птицы. Что на очереди?
Так что, надевая что-то шерстяное, знайте, что шерсть на фабрике не производится… Ее растить надо!
Напевы, какие-то короткие песенки есть у многих народов, но такого явления, как частушка, кроме русского народа, не имеет никто. Пусть простят меня и занимающие вроде бы первое место в мире по песенному творчеству итальянцы, и вроде бы вторые, родные мне, украинцы, но факт – есть факт.
Частушка – простое и гениальное, причем законченное и понятное всем произведение из четырех строк – русское достояние.
Как говорила моя бабушка Маня: «Дав Бог, та щей кынув!» По отношению к частушке: спел, как прилепил. Ни добавить, ни убавить.
Частушки – история и душа народа. И какие бы там новшества не появлялись на наших сценах, с песнями из трех слов и набором программной компьютерной музыки, частушка жила и будет жить, пока живы Россия и народ русский. Это неразделимо и неуничтожаемо, ибо вечно.
Середина пятидесятых. Сколько молодых людей буквально из всех республик и областей приехали на освоение новых земель Сибири и Казахстана! Каждый привозил не только умение работать, но и умение петь, играть, организовывать что-то. Шла ускоренная национальная и культурная ассимиляция. Немцы женились на русских и украинках, белорусы на казашках и немках. Все это сближало, объединяло, устраняло недопонимание и не выставляло приоритетов в каких-то национальных вопросах.
С высоты уже прожитых лет могу с абсолютной уверенностью сказать, что на основном, первичном уровне, среди людей никогда не было вопросов, связанных с национальной принадлежностью. Да, ходили анекдоты и песни, рассказы и басни, но, кроме всеобщего добродушного смеха, они никогда ничего другого не вызывали. Потому что замешаны были на добром и воспроизводились не целенаправленно, чтобы кого-то обидеть, а для всех. Именно ребята из российских областей (Воронежской, Рязанской, Владимирской, Горьковской и других) привезли с собой на целину частушку, сразу пленив ею всех – как приезжих, так и местных жителей.
В моей родной Слободзее частушки были не менее популяры, чем в российских селах, поэтому мне, как гармонисту, в те времена не составляло труда аккомпанировать любому частушечному направлению. Ведь частушки бывают разные – веселые и грустные, девчоночьи и женские, мужские и стариковские. Используются при этом десятки мелодий. Каждая область или даже район, часто имели свою интерпретацию известной мелодии или вообще свою мелодию. В большинстве своем, частушки были веселые и лирические.
Люди их любили, особенно местные, им это было диковинно и интересно. И они с нетерпением ожидали наши импровизированные концерты. Не часто, пару раз в месяц, по рации шло сообщение в нашу бригаду: «Передайте Гурковскому, чтоб в эту субботу приехал в МТС, в баню». Это означало, что молодежь нашей центральной усадьбы хочет потанцевать. Мы запрягали бригадную кобылицу в обычный тарантас, а так как в основном ребята были приезжие, то грузились почти все на это транспортное средство, прицепившись, кто, где мог. Двое-трое размещались верхом на кобыле и шагом добирались за 18 километров в Ащелисай, на центральную усадьбу МТС. У меня было два гармоники – одну, купленную вскладчину, я держал в общежитии, вторая, МТСовская, была в бригаде для совершенствования. Мы подъезжали к общежитию, забирали гармонь и ребят, из тех, кто работал здесь, на месте, и ехали к клубу.
Вечерело. В клубе обычно в это время начиналось кино. Фильмы мы почти не смотрели: сперва шли в баню, а потом хотелось просто по-общаться, да еще ублажить местную публику, которая с нетерпением (мы это хорошо знали), ждала наших частушек. Обычно мы выстраивались в шеренгу человек в двадцать-двадцать пять: шли почти вполовину центральной улицы – от клуба до северного окончания ее, и пели. Туда и обратно – километра три. Так как мы шли, не спеша, то как раз успевали вернуться к клубу до конца сеанса.
В темные безлунные ночи зрителей-слушателей не было видно. Они стояли практически у каждого дома, ловили каждое слово. Смею заверить, там было, что услышать. Жаль только, что не хлопали. Неудобно, видимо, было. В светлые лунные ночи они тоже выходили, но стыдливо прятались в затененных местах.
Читать дальше