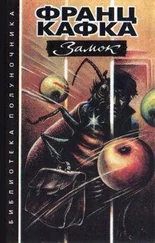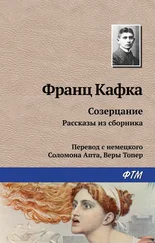К тому же, известное уважение и боязнь удерживали их от насилия. Я уже тогда подозревала что–то подобное, ныне же знаю точно, куда более точно, чем те, кто в ту пору это совершал, это правда, меня хотели сманить с моего пути. Это не удалось, они добились обратного, мое внимание обострилось. Я даже осознала, что это я, та самая собака, которая хотела соблазнить других, и что мне и вправду до известной степени этот соблазн удался. Только с помощью всего собачьего рода начала я понимать мои собственные вопросы. Если я, к примеру, спрашивала: откуда земля берет эту пищу, — так неужели меня беспокоила при этом, как могло показаться, земля, а может, меня беспокоили заботы земли? Ни в малейшей степени, я скоро поняла, что очень далека от этих проблем, меня беспокоили только собаки, а больше ничего. Ибо что еще есть на земле, кроме собак? Кого еще можно окликнуть в этом огромном пустом мире? Всеми познаниями, совокупностью всех вопросов и всех ответов обладают собаки. Если бы только эти познания можно было применять эффективно, если бы можно было применять их открыто, если бы только собаки не знали намного больше того, в чем они признаются, в чем сами себе признаются. И даже самая разговорчивая собака куда более замкнута, чем замкнуты входы в места, где имеется наилучшая пища. Тут уж ты крадучись кружишь вокруг ближнего своего, все в тебе кипит от страстного желания, ты хлещешь себя собственным хвостом, задаешь вопросы, просишь, воешь, кусаешь и добиваешься — и добиваешься того, чего можно было добиться без всякого напряжения: тебя любезно выслушают, дружески коснутся, почтительно обнюхают, нежно пообнимают, твой и их вой сольются в единый; все направлено на это, восхищение, забвение и обретение, но то единственное, к чему ты стремился, — пополнение твоих познаний, в этом тебе все так же отказано. На эту просьбу молча или вслух в лучшем случае отвечают — если уж ты, соблазняя их, перейдешь все границы, — тупые выражения лиц, косые взгляды, хмурые, мутные глаза. Все происходит ничуть не иначе, чем было тогда, когда я ребенком окликнула собак–музыкантов, а они молчали.
Ну, так можно было бы сказать: «Ты жалуешься на своих ближних, собак, на их молчаливость, когда дело касается основополагающих вопросов, ты утверждаешь, им–де известно больше, чем они признают, больше того, что имеет для них значение в жизни, и это умолчание — основание для которого и тайну которого они, разумеется, также умалчивают, — отравляет тебе жизнь, делает ее невыносимой для тебя, ты должна бы ее изменить или покинуть, возможно, но ты же сама собака, обладаешь собачьими познаниями, ну так и поделись ими, выскажи не только в форме вопроса, но и как ответ. Если ты ими поделишься, кто устоит перед тобой? Тут уж и большой хор всего собачьего рода вступит, словно только и ждал этого. Тогда в твоем распоряжении окажется столько правды, ясности, признания, сколько ты захочешь. Крыша нашей низменной жизни, которую ты обвиняешь во всем дурном, поднимется, и все мы, собака за собакой, взойдем в высшие сферы свободы. А если не удастся это и станет еще хуже, чем было до сих пор, если окажется, что полная правда невыносимее, чем полуправда, и если подтвердится, что молчальники, как хранители жизни, правы, если тихая надежда, которую мы все еще питаем, обратится в полную безнадежность, то попытка высказаться того все–таки стоит, ибо так, как тебе жить позволено, ты жить не хочешь. Ну что ж, почему ты ставишь другим их молчание в упрек, а сама молчишь?»
Простой ответ: потому что я собака. Во всем существенном замкнута точно так же, как и остальные, уклоняюсь от ответов на собственные вопросы, сурова из страха. Разве спрашиваю я собак, по крайней мере с тех пор, как стала взрослой, для того, чтобы они мне ответили? Питаю я столь глупые надежды? Раз я вижу основу основ нашей жизни, предполагаю ее глубины, вижу рабочих, что трудятся на этой мрачной стройке, так неужели я еще жду, что в результате моих вопросов все это закончится, будет разрушено, заброшено? Нет, этого я поистине больше не жду. Я их понимаю, я кровь от их крови, от их бедной, всегда вновь юной, всегда вновь требовательной крови. Не только кровь у нас общая, но и наши познания, и не только познания, но и ключ к ним. Я владею ими не без остальных собак, я не могу владеть ими без их помощи.
С затверделой костью, содержащей самый благородный мозг, можно справиться, если совместно вгрызаться в нее всеми зубами всех собак. Это, разумеется, лишь образ и преувеличение; были бы все зубы на то готовы, им бы не пришлось грызть, кость сама раскрылась бы, и костный мозг был бы доступен самой слабой собачонке. Придерживаясь моего образа, я нацеливаю, однако, свое намерение, мои вопросы, мои изыскания на нечто чудовищное. Я хочу побудить всех собак собраться, хочу, чтобы под воздействием их готовности кость раскрылась, хочу затем распустить их, чтобы они продолжали жить своей жизнью, которая им мила, и тогда уже, оставшись одна, во всей округе одна, высосать весь костный мозг. Это звучит чудовищно, звучит почти так, словно я хочу насытиться не только мозгом из той кости, а мозгом всего собачьего рода. Но это же всего–навсего образ. Костный мозг, о котором здесь идет речь, это не еда, это совсем противоположное — это яд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
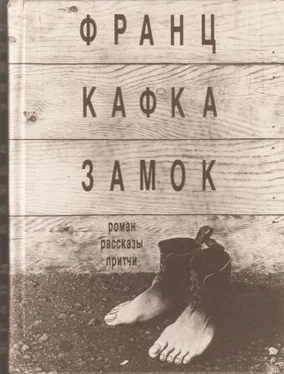

![Франц Кафка - Замок. Рассказы [сборник]](/books/27152/franc-kafka-zamok-rasskazy-sbornik-thumb.webp)
![Франц Кафка - Три романа - [Замок, Процесс, Америка]](/books/27971/franc-kafka-tri-romana-zamok-process-amerika-thumb.webp)