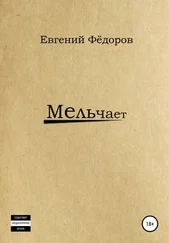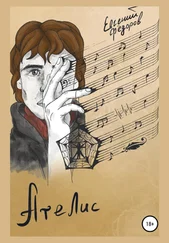Евгений Фёдоров - Жареный петух
Здесь есть возможность читать онлайн «Евгений Фёдоров - Жареный петух» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 0101, Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Жареный петух
- Автор:
- Жанр:
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Жареный петух: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Жареный петух»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Жареный петух — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Жареный петух», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Взялся с испанской храбростью за гуж повествования о славном друге Краснове, а сползаю к безостановочному разглагольствованию о собственной персоне, о передаче, которую я ухайдакал, как последний дурак. А что, читатель, если на досуге подумать крепко, хорошенько, может, есть резон в том, что сначала я представлюсь, расскажу о себе. Будет очевидно, с какой колокольни я смотрю на мир. Все относительно. Эйнштейн кругом. Еще мои славные греки знали, что человек есть мера всех вещей, что нет абсолютных, незыблемых, вечных истин, что все зависит от точки зрения, от освещения, от подсвета. Без предварительных сведений о себе и вообще о моем незадачливом поколении, у которого голодные, вшивые детство-отрочество и послевоенная беспорточная юность, картина не понятна. Мерзли руки, мерзли ноги, в школьных классах замерзали чернила. В три смены учились. Карточки, бесконечные разговоры о калорийности, жирах, витаминах. Отцов на войне поубивали. И вообще мы несчастные сукины дети! Хочешь — не хочешь, а об этом следует свидетельствовать. Без подобных штрихов о моем поколении многое, что я пытаюсь рассказать, будет видеться глупым, придуманным, беспросветно вымороченным, преувеличенным, насквозь карикатурным. Впрочем, я вовсе не готов в сей момент отдернуть завесу над историческим прошлым, а лишь слегка. По складу характера я склонен к сдержанности, вежливости, к сглаживанию углов. По свойству натуры я тяготею к нежным компромиссам, к оппортунизму, к худому миру вместо доброй ссоры. Не смутьян, не борец. Болото. "Таков мой организм"(Пушкин). Но, разумеется, всему есть граница, И если дважды два — четыре, то четыре, никуда не попрешь. Для примера. Никто не бил на следствии меня смертным боем. И, если свои показания я дал не под жестокими, непереносимыми пытками, с какой стати мне безбожно брехать. Я, заметьте, отнюдь не намерен свидетельствовать, что никого не били. Полагаю, что били. Говорят, били. В милиции, говорят (сам не попадал), и сейчас лупят направо и налево. Но я избег мордобития и других пыток. Не имею к следствию особых претензий. Все, чем набиты компроматы, что записано в протоколах допросов, сущая правда. Еще маленькая, но удручающая, важная подробность, о которой свидетельствую: и тех, с кем довелось мне сидеть в 12-й камере Внутренней тюрьмы МГБ, не били. Не били моего друга Краснова, вам уже представленного, не били Хейфица, не били даже власовцев (а чего пытать власовцев? Они не отрицали, что были в РОА). Конечно, следователь с нами, политическими преступниками, не в бирюльки играл. Суровые, тягостные, со строгостью ночные допросы. Что греха таить, знатные допросы, серьезные. Но дело не в этом. Мы сами все начистоту рассказывали следователю. Сами доились. А нагло, наглухо запираться считалось дурным тоном. Может, власовцы думали и иначе, но они помалкивали в тряпочку. Меня никто не запутывал, не обводил вокруг пальца. Дух времени. Дух эпохи. Наше поколение под следствием — загадка для психологов. Может, читатель испытывает досаду, горький стыд за таких слабых, малодушных, ничтожных людишек, как обитатели 12-й камеры? Но — увы! так было. Уверен, что если бы и вы, бесстрашный читатель, не в обиду будет сказано, сидели с нами в те годы, вы вели бы себя так же. Я что-то мало встречал дон кихотов. Не думай о нас свысока, читатель. Баста, точка на этом.
Для пущего разбора и раскрутки следует начать, как говаривали древние греки, с яйца, то бишь с рассказа о семье, родителях. С прозы начну. Как бы вам, читатель, получше внушить: все тоскливо, скромно, заштатно, обычно, беспробудно, заурядно. Отец, представляете, школьный учитель, а мать учительница. Отец вел математику в старших классах, носил баки, смехотворные, седеющие баки, вообще внешностью сильно смахивал на обрюзгшего, малоопрятного, малогигиеничного, состарившегося Пушкина: плюгав, хмырист, неказист, тонкие, рахитичные ножки, сомнамбулическая, порхающая походочка, тонкие, изящные, не очень сильные руки, холеный длиннущий ноготь на левой руке (кажется, у Пушкина такой же ноготь, но то романтическая эпоха, чудили поголовно все), на правой руке перстень, опять как у Пушкина ( обручальные кольца в тридцатые — сороковые годы не носили, считалось — фи, мещанство), грудь колесом, надменно вздернута голова, опять же нелепые, неуместные, смешные бакенбарды! Кто в наше время носит бакенбарды? Большой оригинал. Если что-то и было, за что можно относиться с известным уважением к такому странному экспонату, как мой отец, так это лишь за то, что несчастных, ни в чем не повинных деток он мучил не по Киселеву, как было принято и положено, как учили все прочие нормальные люди, кто не выдрючивался, а по какой-то своей прескучной сисад.ме: свой курс геометрии у него был. Отец страстно грезил издать этот курс, превратить в стабильный учебник и через это выпорхнуть, взбежать на тонких, рахитичных ножках на пьедестал. К нему не зарастет народная тропа! Стабильный учебник — немало. Кому-то придется снять шляпу. Киселев где-то когда-то сказал: "Вся Россия мои ученики". Отец корпел над курсом геометрии всю жизнь, вечерами, выходными, в редкие праздники, не разгибал спины, перепахивал, переписывал, множил, плодил варианты, циклился, опять начинал от печки. Веленью Божию, о, муза, будь послушна. Напомню читателю, что муз было девять, что муза Урания занимается геометрией, астрономией, изображается с циркулем. Не мне решать, каким отец был геометром, плох или хорош его учебник, знаю, что ученики его изрядно недолюбливали, прозвали зло, метко, ворошиловский выстрел, не в бровь, а в глаз: "Сухайдр!" Сколько там ретроспективится, отец практически все время хандрил, хворал, раздражался по пустякам, эгоцентричничал, беленился, на стенку лез, доводил себя до белого каления, раздувал из мухи слона. Скверный, тяжелый характер. Грандиозный скандал, и из-за чего? Мать ненароком взяла его зубную пасту, свернула резьбу тюбика. Зубная паста была не наша, а импортная, американская, присланная в посылке из-за океана. Почему, как получили мы посылку — целая, отдельная история. Все время отца тянуло на брутальные скандалы с матерью. Сумасшедший дом. Он страдал желудком. Вечные, одолевающие, хронические, ничем не устранимые изжоги, рвоты. Чуть что по нечаянности забудется, съест — все обратно, бежит в нужник (теперь это помещение называется санузел), затем со вселенским отвращением глотает питьевую соду, растворенную в стакане воды (не дай Бог, кто-нибудь возьмет его стакан, не поставит на место! Крику будет на весь мир),- и при этом делает такое лицо, что и меня начинает мутить. Сидел на жесткой диете. Того нельзя, этого вовсе нельзя и думать. Замучил маму неукротимой маятой и привередливостью. Это нынче живем счастливо, просто, как в песне: "чай не пьем без сухарей, не живем без сдобного...", а тогда, сами поди догадались, каково было: ой-ой! Одно слово, страшное слово: карточки. Я хочу сказать, что через рынок питаться — никаких денег не хватит, Рокфеллером надо быть. Мама была моложе отца на целых двенадцать лет, прямо как Наталья Николаевна у Пушкина. Мать — другой характер, легкий, бойкий, заводной, легкомысленный, бесшабашный, безалаберный, куражный. На зависть необидчива. Она могла на свой милый манер с юморком, беззаботно лепетать, как ловко ее унасекомили злыдни-ученики, подъелдыкнули, задали вопросик, чем отличается женская рифма от мужской, а она, конечно, начисто не знала, что-то с ходу и немедля наврала. У мамы милая, светлая улыбка, обезьяньи подвижное лицо. Смешлива, словоохотлива. Укатали Сивку крутые горки. Годы войны измочалили родителей, волосики поредели, побелели. Устали, раздавлены бытом, апатичны, аполитичны. Среднеинтеллигентская, обыкновенная семейка. Впрочем, мой придирчивый и шибко принципиальный читатель, если вы строги, пуристски щепетильны, можете смело относить моих родителей к полуинтеллигенции. Я-то сам стал рано относиться чрезмерно и немилосердно критически к матери и отцу. Гамлет, принц датский, сын покойного и племянник царствующего короля: "0, мои прозрения!"Не знаю, решусь ли о тайне поведать. А если и решусь, то не вдруг, а с большого разбега. Продолжаю о родителях. О быте, о красноречивых мелочах. Пусть читатель сперва представит нашу преогромную, нелепую, несуразную комнату: тридцать девять квадратных метров, непомерная высота потолка, поднебесье. Вся жизнь в этой дурацкой комнате. Тюлевые безвкусные занавески на окнах, во всю мощь на окне пылает, полыхает отменная герань. В кадке помпезный фикус, как в гостинице. И клетка, в которой безмозглая канарейка щебечет непрестанно, громко, глупо. Можете ли вы, читатель, вообразить, чтобы у Маяковского в комнате стоял фикус, щебетала канарейка? А я все детство, отрочество, юность бредил Маяковским, видел в нем идеал и норму недосягаемого образца. Зачем нам эта безмозглая, мещанская, глупая птаха? Маяковский и пошлая, поистине непереносимая, филистерская, мещанская птичка-невеличка — две вещи несовместные, как гений и злодейство. Канарейка, недостойный тошнотворный фикус— ходульные символы глобальной, вселенской, кафолической смертельно-штопорной заземленности. Все не так, как у людей. Нашу семью, как говорится, посетил Бог. Я — в лагере. У отца — рак. Рак — синоним смерти. Умер. Царствие ему небесное, вечное. Жаль мать. Но я забегаю вперед. Уже упоминал, что я рано перерос тяжелые, болью давящие кандалы родства. Отец меня не понимал и не хотел понять. Общее место, трюизм. Родители не понимают детей, дети родителей. Учителя не понимают учеников. Аристотель не понял Александра Македонского, брюзжал. Мой отец бурно недоумевал, зачем я, непутевый, ослушник, дерзнул избрать специальностью искусствоведение, пошел на филфак, а не топаю по его проторенной дорожке, не посвящаю свою жизнь науке наук, геометрии? Отец откровенно презирал всех, кто пренебрег геометрией. А кто такой искусствовед? Что за профессия? Почему между картиной и зрителем должен быть объясняющий посредник, как между небом и землей? Поручитель, посредник, интерпретатор, Стасов. Зачем они? Безусловно, я могу ответить, что Стасов вовсе не искусствовед, а критик, на редкость одержимый, ураганный направленец, но я не желаю вступать в бесполезные, бесплодные, утомительные, никому не нужные дискуссии — терпеливо выслушиваю длинные нотации, углы осторожно сглаживаю, но поступаю по-своему, самостоятельно. Конечно, если бы пришлось начинать жизнь сначала, я бы не стал искусствоведом, а пошел бы на классическое отделение филфака, занимался бы древними языками, к которым у меня и способности, и склонность. И кто сейчас на кафедре? Мне учиться на искусствоведческом отделении было интересно, а это сильный плюс в пользу выбранной профессии. А дальше? Кем стану, когда закончу, не задумывался серьезно. Эх ма, а какие славные преподаватели были у нас на кафедре! Сливки, деликатесные сливки. Редкостные интеллектуалы. Почтенный, влиятельный вещевик Федоров-Давыдов, бесподобный Колпинский, Недошивин, великий эрудит Губер. Нам, тем, кто учился на искусствоведческом отделении в сороковые годы, можно лишь позавидовать! Если бы вы, читатель, знали, как остро, непередаваемо увлекательно читал Губер культуру древней Греции. Заслушаешься. Тысяча и одна ночь. Всем я обязав ему. Губер увлек меня античностью. А Колпивский — бог, Златоуст. Прости, читатель, мой романтический всхлип: "Были люди в ваше время!". Сейчас не то. Выродились. Нет таких преподавателей и не может быть, измельчали, испоганились. Что же я мог возразить отцу в свое оправдание? Жар холодных числ — претит, увольте хоть без выходного пособия. Не моя свободная стихия, не для моего серого вещества. Разговор на эту тему скучен, как осенний дождь, беспочвен, беспредметен. Я глух, как стенка. Не пойду на мехмат ни за какие коврижки. Точка. Объяснять отцу я ничего не собирался. Почему дети непременно должны беспрекословно, послушно, безапелляционно идти по стопам своих неудачников-родителей? Мой отец так и не завершил свой скорбный труд, не издал учебник. Адски завидовал Киселеву, Гурвичу, немилосердно честил их на всех перекрестках и почем зря: проныры, ловкачи, карьеристы! Особенно Гурвичу доставалось, который по возрасту был ближе к отцу. Киселев-то принадлежал к старшему поколению, дореволюционная штучка. Не знаю, чей курс геометрии стройнее, чище, последовательнее. Не могу судить. Не копенгаген. Отцу не посчастливилось изловить фортуну за хвост, не повезло издать многолетнюю писанину, как стабильный школьный учебник для средней школы. Интриги, козни. Помню пресловутые, вечные сетования отца, что ему ставят палки в колеса, затирают, замалчивают, что против него кольцо блокад, "профессорский заговор". Неведомый шедевр, труд жизни так и остался незавершенным, в виде нескончаемых, беспардонно нечитабельных, бесчисленных, раздрызганных вариантов. Какой бы поздней ночью я ни просыпался, видел горящую лампу над письменным столом с зеленым абажуром, чем-то еще накрытую, чтобы не мешала мне, маме, и склоненную пушкинскую голову отца: мрачная, неугомонная сосредоточешность над каким-то темным доказательством какой-то теоремы. Над громадным старорежимным столом аршинными буквами прикноплен девиз: "Незнающему геометрии вход воспрещен". Замечу мимоходом, что знаю бoлee точный, более близкий к оригиналу перевод: "Негеометр да не войдет". Но это так, к слову, для интереса. Я-то, безусловно* негеометр, входить не собираюсь, обходить думаю. Еле отбился от обрыдлого, проклятого мехмата, куда меня взяли бы прямо так, почти без экзаменов. Блат был. Заранее известны были задачи. Но мне это ни к чему. Только мехмат дает настоящее образование, приучает человека к самостоятельному мышлению. Знаю, слышал сто раз! При всем том и зная мои наклонности спрашивается, почему же отец вовсе не чесался, не печалился, беззаботно оставил мне в наследство Хеопсовы пирамиды бумаги? Неужели он думал, что его наследие будут изучать, разбираться, как разбирались Жуковский, Бартенев в наследстве Пушкина? Скажите на милость, что с этим густым хламом мне делать? Я — гуманитарий до мозга костей, а мне в наследство оставляют математические рукописи. Зачем? Почему батя не выкроил времени, не разобрал бумаги, не отобрал собственноручно последний, бесспорный, законченный, совершенный вариант учебника геометрии, а остальное не выбросил к чертям собачьим? Зачем мне тонны испачканной каракульной, мелкой, убористой скорописью бумаги, на которой сосуществуют не то пять, не то семьдесят пять изнурительно головоломных доказательств теоремы Пифагора? Почему я, не специалист, обязан во всем этом разбираться? Сжег бы лишнее и — делу венец. Одну папку, пусть и солидную, его непреклонный великий труд я бы хранил, как зеницу ока, строго наказал бы потомкам "хранить вечно", не отдавать в макулатуру ни за какую "Женщину в белом". Почему нудную, скучную работу по вычитке, выверке, сверке рукописи, по выявлению оптимального текста должен делать кто-то за автора? Нет, никак этого не пойму. Ведь отец "угас, как светоч"не скоропостижно, как Пушкин, царствие им небесное, а сбирался в далекий путь целый битый год: маялся, других замаял. Времени было навалом, минимум миниморум воз и маленькая тележка. Разобрал бы, рассортировал бы рукописи. Что мешало? Умирал? Не до этого? Но на стенку от боли лез он последний месяц, а раньше о чем думал? Что мне-то делать с тюком желтеющей, хиреющей, ломающейся, скверной дряни? В шестидесятые годы макулатура на абонементы еще не обменивалась. Книг в хрущевекое время и так полно было, уцененные, дешевые. Даром. Бери — не хочу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Жареный петух»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Жареный петух» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Жареный петух» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.