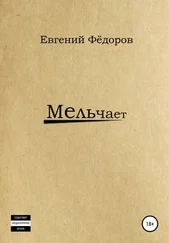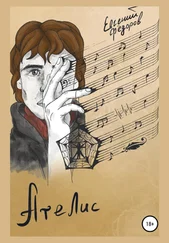***
Краснов милостиво уступил позыву сна, задвинув привычно, машинально "Науку логики"под угол жесткой подушки, прикорнул. Забылся, знать, ненадолго: его выволокли из розовой, невнятной симфонии сна, за ногу грубо дернули.
— Философ, ух спать здоров, проспишь царство небесное! Шнель! На абордаж. В темпе! Труба зовет. Не посрами, малек, земли русской!
В бараке нездешняя, чреватая тихость, как в центре великого урагана. Скрип нар. Первое, что различил сонный Краснов, так это клоунскую физию белобрысого, белобрового Колобка — рот до ушей, хоть завязочки пришей. Ясные, чистые, плутоватые, смеющиеся глаза. Одновременно невинность и пройдошистость: из глаз мельчайшими блестками-звездочками обильно валились смешинки, струились, вихрились, прыгали и мчались во все стороны. Шалун перед вами, малый пацаненок, еще не познавший уродливость мира, не позцавший, что кроме игры есть на свете еще собачий ошейник с пряжкой, который легко превратится в жестокое орудие экзекуции. А ведь Колобку под сорок, а то и за сорок. Юный философ угрюмо, недовольно поморщился, приподнялся на локте, вмиг уразумел, что значит "не посрами земли русской". Оторопел. С ходу прохватило всего, как сквозняком, чистая его душа запаниковала, содрогнулась от непреодолимого, могучего омерзения, свернулась в твердый ледяной комок, дезертировала испуганной улиткой за твердый, непробиваемый панцирь.
— Кыш! — вот и все, что он смог из себя выдавить; еще обеими длинными ногами, за которые цеплялся Колобок, пытаясь его стащить, отчаянно, малодушно задрыгал, словно на невидимом гоночном велосипеде, как ошалелый, полетел прочь.
Где оркестр? Туш!
Эдакое редко узришь, а если и сподобишься узреть, будешь помнить до гробовой доски, а может, и за гробовой доской. На соседних нарах, внизу лежала женщина — с задранной юбкой, .срамно., .широко расставив ноги; на ногах чулочки, нелагерные; новенькие туфельки —на высоком каблуке, модные в наши послевоенные годы. Туфельки — последний крик моды! Над женщиной господствовала, работала чья-то голая задница, яростно старалась! У туфельки — казенные трусы, болтаются, преогромные, голубые; ноги длинные, изящные, точеные, дьявольски женственные, и по этим ногам, хотя их никогда не созерцал и не разглядывал, Краснов враз признал богиню любви комендантского ОЛПа несравненную Зойку, что поразила его сердце в карантине. И вот опять явилась ты! Оркестр, жарь! Удалец Алексеев, рамщик лесоцеха, неуклюже сполз с женщины, отлетел, как ужаленный, к противоположным нарам, разом подтянул штаны, спрятав в них мощное, завидное, первоклассное ладное хозяйство, заулыбался. Впервой мой философ сподобился зреть жутковатую женскую наготу — без набедренных прикрас, без фиговых листов, а прямо так. Не успел он моргнуть, а Зойку уверенно покрыл следующий герой, вовсю, остервенело, айда — пошел работать, как сказал поэт, "скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье", а двое очередников, со спущенными штанами, совсем в молитвенно-коленопреклоненных позах, рядом, мобильные, норовящие ринуться в бой, не теряя секунды, только неприятной белизной сияют исхудалые ягодицы.
Набожно склонены бритые шары голов на худущих, непомерно длинных, рахитичных зэчьих шеях:
— Кончаешь?
По-деловому, просто.
Счастливчик покрывал Зойку; и вот еще один, ловко, почти с разбега полез, покрыл, разом отвалился; вот и четвертый, шебутной, как кот, так же скоренько отваливается. Еще. Снова неутомимый Алексеев, ударил, а эта стерва Зойка азартно ищет его губы, ей все мало, экстатично, благодарно прижала к себе, издала — только с Алексеевым — экстатический, откровенный стон и пошла писать губерния. Просто, страшно. Философ не выдержал: в ужасе отпрянул. Но снова, украдкой запустил глаз, куда нельзя, не следует, вперился в то, что бушевало внизу на нарах. Взасос вперился. Он продолжал смотреть вопреки рвущему, распинающему стыду, прилип глазами, широко разинул вышедшие из-под контроля и повиновения вежды. Опять он видит ягодицы очередников — мерзко, отвратительно. А выражение лица у гениальной Зойки инфернально: в глазах блаженство, угрюмое блаженство, и она отвратно, немыслимо задирает зачем-то ноги, болтает ими, как лягушка, этим движением ног царапает, ранит сердце юного философа, и он начинает в такт ей задыхаться, заражаясь низменной, свинцовой страстью, все очевиднее, явственнее материализующейся, и он видит безумную женщину, только ее, он абстрагировался от этих, от этого, кто. на ней, от двоих очередников, спустивших штаны, коленопреклоненных, готовых, от всех тех, кто обступил нары; он видит только фигуристые бедра женщины, ее ногу, чувствует сердцем мрачно-порнографические подробности, сатанинско-лягушачьи, выразительные, как кадры немого кино, движения ладных ног, понятные движения, видит восторженный оскал женского прекрасного лика.
Читать дальше