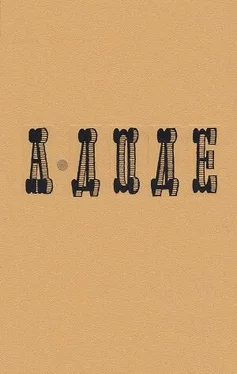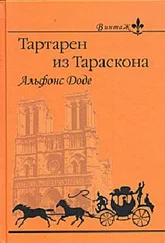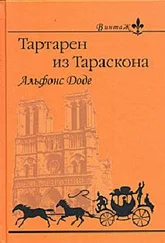Немного погодя кузнец, сердито отодвинул тарелку.
— Ах, подлецы! Ах, мерзавцы! — воскликнул он.
— На кого это ты сердишься, Лори?
Он дал волю своему гневу.
— На тех негодяев — их пятеро или шестеро, — что сегодня с утра разгуливают по улицам во французских мундирах, рука об руку с баварцами… Они тоже из тех, кто… (как это называется?) пожелал перейти в прусское подданство. И подумать только, что с каждым днем их все больше возвращается, этих лжеэльзасцев!.. Чем только их опоили!
Жена кузнеца попыталась защитить их.
— Как сказать, родной, нельзя уж так строго винить бедных ребят… Этот Алжир, где-то в Африке, куда их посылают, так далеко отсюда!.. Там они тоскуют по родине, и для них большой соблазн — вернуться домой, покончить с солдатчиной.
Лори изо всех сил стукнул кулаком по столу.
— Молчи, старуха!.. Вы, женщины, ничего в этом не смыслите. Век свой возитесь с детьми, только для них живете — вот и мерите все на детскую мерку… А я тебе скажу, что это подлецы, отступники, презренные трусы. Если бы не приведи бог — наш Христиан оказался способным на такую низость, я бы зарубил его своей саблей; это так же верно, как то, что меня зовут Жорж Лори и что я семь лет прослужил в егерском полку.
Приподнявшись, кузнец со свирепым видом указал на длинный егерский палаш, висевший на стене, под фотографией сына, зуава, которую тот прислал из Африки. Но взглянув на открытое, черное от загара лицо молодого эльзасца, резко выделявшееся на фоне белесых, расплывчатых пятен, в которые превращаются на фотографиях яркие краски, тускнея и сливаясь при сильном свете, кузнец мигом успокоился и рассмеялся.
' — Ну и дурак же я, что так расходился, — будто нашему Христиану в голову могло бы прийти стать пруссаком… Сколько он их уложил за время войны!..
Эта мысль привела кузнеца в хорошее расположение духа. Он с аппетитом доел свой ужин и тотчас отправился выпить кружку-другую пива в трактир «Виль де Страсбур».
Жена кузнеца осталась одна. Уложив спать трех белокурых мальчуганов — они еще долго щебечут в соседней комнате, словно птенцы, засыпающие в гнездышке, — она берет работу, садится у двери, выходящей в сад и начинает штопать. Время от времени она со вздохом думает:
«Пусть даже он прав: они трусы, отступники… А все-таки для матерей большое счастье, что они вернулись».
Она вспоминает те годы, когда ее старшин сын, прежде чем пойти на военную службу, работал в это время дня здесь, в саду. Она смотрит на колодец, где он наполнял лейки — в рабочей блузе, с длинными, прекрасными волосами, которые ему обрезали, когда он стал зуавом…
Внезапно она вздрагивает. Калитка — та, что выходит в поле, — скрипнула. Собака не залаяла. А ведь тот, кто вошел, крадется, словно вор, вдоль стен, бесшумно пробираясь между ульями…
— Здравствуй, мама!
Перед ней Христиан, в расстегнутом мундире, смущенный, взволнованный; он говорит заплетающимся языком. Малодушный солдат вернулся вместе с другими зуавами на родину и вот уже около часа бродит вокруг дома, дожидаясь, пока уйдет отец. Мать хотела бы разбранить его, но у нее не хватает духу. Она так давно не видела его, так давно не целовала! К тому же сын приводит веские причины; он рассказывает ей, как сильно он скучал по родному краю, по кузнице, как томился разлукой со своими, как вдобавок дисциплина становилась все более суровой, а товарищи издевались над ним, обзывая его «пруссаком» за его эльзасское произношение. Мать верит всему, что он говорит; ей достаточно взглянуть на него, чтобы поверить его словам. Продолжая разговаривать, они входят в столовую. Разбуженные шумом, мальчики выскакивают босиком, в одних рубашках и бросаются на шею старшему брату. Мать уговаривает его поесть, но он не голоден. Его мучит жажда, неутолимая жажда. Он залпом осушает одну кружку воды за другой, заливая огромное количество пива и белого вина, которое он с утра уже успел выпить в трактире.
Во дворе слышатся шаги. Это возвращается кузнец.
— Христиан! Отец идет! Скорей спрячься, а я поговорю с ним, объясню ему…
Мать толкает сына в угол, за большую изразцовую печь, и снова принимается шить дрожащимн от волнения руками. К несчастью, феска зуава осталась на столе и тотчас бросается кузнецу в глаза. Бледность жены, ее замешательство… Он понял все.
— Христиан здесь!.. — говорит он страшным голосом и, не помня себя, схватив палаш, бросается к печке, за которой, прислонясь к стене, чтобы не упасть, притаился бледный, как полотно, отрезвившийся зуав.
Читать дальше