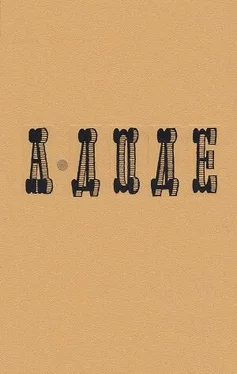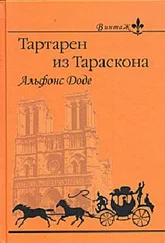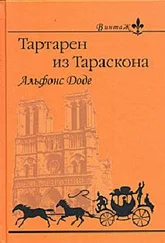— Дурень… Одно слово — дурень…
Перевозчик прислушивался к их разговору; не переставая действовать багром, он счел нужным вставить:
— Полно вам сердиться, дядюшка Шашиньо!.. Ну, какая вам польза от судебного пристава?.. Много ли выиграете вы от того, что имущество бедняков пойдет с молотка? Повремените — ведь вам же не до зарезу нужны деньги.
Старик обернулся таким резким движением, как будто его кто-то укусил:
— Молчать, лодырь ты этакий! Ты ведь тоже у нас патриот! Глаза бы не глядели! Пятеро детей, ни гроша за душой, а еще вздумал палить из пушек, когда его никто не просил!.. Нет, правда, сударь (негодяй, по-видимому, обращался ко мне), какая нам от этого была выгода? Вот он, к примеру, добился того, что ему починили рожу, да еще в придачу потерял хорошее место… Теперь живет, как цыган, в будке — там ветер так и гуляет, ребятишки все время болеют, а жена надрывается, стирает… Ну разве не дурень?
Перевозчик вспыхнул от гнева. Я заметил, что на его побледневшем лице шрам выступил еще резче и побелел. Но у него хватило самообладания сдержаться, он обрушил свой гнев на багор, погрузив его так глубоко в песок, что он чуть не сломался. Еще одно слово, и он мог бы лишиться и этого места, так как г-н Шашиньо пользуется влиянием в округе: он член муниципального совета.
¨ I ¨
Полк выстроился в боевом порядке на железнодорожной насыпи, и теперь он служил мишенью для всей прусской армии, сосредоточенной напротив, у леса. Люди расстреливали друг друга на расстоянии восьмидесяти метров. Офицеры кричали: «Ложись!..» Но никто не слушался команды, горделивый полк стоял прямо, сплотившись вокруг своего знамени. На широком фоне солнечного заката, пастбищ и колосящихся нив эта кучка измученных людей, которую заволакивало дымной мглой, напоминала стадо, застигнутое среди поля первыми порывами жестокой бури.
И каким же градом свинца поливало эту насыпь! Только и слышен был треск ружейной пальбы, глухой стук скатывавшихся в ров солдатских котелков, да пули протяжно звенели вдоль всего поля битвы, точно натянутые струны зловещего и гулкого инструмента. Время от времени полковое знамя, колыхавшееся над головами от вихря картечи, ныряло в клубы дыма. Тогда, покрывая пальбу, стоны и проклятия раненых, раздавался строгий и гордый окрик: «Знамя, ребята, знамя!» И тотчас фигура офицера, точно тень, бросалась вперед, в кровавый туман, и доблестный стяг, ожив, снова взвивался над полем битвы.
Двадцать два раза падало оно!.. Двадцать два раза его древко, едва выскользнув из безжизненной руки, подхватывалось и выравнивалось снова, и когда после захода солнца горстка людей — все, что осталось от полка, — решилась наконец отступить, знамя было уже лоскутом в руках сержанта Орню, двадцать третьего знаменосца за этот день.
¨ II ¨
Сержант Орню был старый вояка, едва умевший подписать свою фамилию и прослуживший двадцать лет, прежде чем получить унтер-офицерские нашивки. Все злоключения ребенка-найденыша, вся тупая муштра казармы запечатлелись на атом низком, упрямом лбу, на согнутой от ранца спине, на привычной выправке строевого солдата. К тому же он заикался, но, чтобы быть знаменосцем, красноречия не требуется. Вечером, после сражения, полковник сказал ему:
— Раз знамя у тебя, пусть у тебя и останется.
И на его убогую походную шинель, успевшую выцвести от дождя и пороха, маркитантка тотчас же нашила золотой галун подпоручика.
Это было единственное торжество за всю его долгую скромную жизнь. Плечи старого солдата тотчас расправились. Горемыка, привыкший гнуть спину и смотреть в землю, теперь шагал приосанившись и глядел вверх на этот обрывок материи, стараясь держать его как можно прямее, как можно выше — над смертью, над изменой, над поражением.
Вряд ли видели вы кого-нибудь счастливее Орню, когда он во время сражения обеими руками держал древко, прочно всаженное в кожаный наконечник. Он не говорил ни слова, не шевелился, он был важен, как жрец, держащий в руке священный сосуд. Вся жизнь его, вся сила была в пальцах, что сжимали чудесный золоченый лоскут, на который сыпались пули, да еще в глазах, вызывающе глядевших прямо в лица пруссакам и как бы говоривших: «Попытайтесь-ка отнять его у меня!..»
Никто и не пытался, даже смерть. Из самых кровопролитных сражений при Борни, при Гравелоте [5] бои 14–16 августа 1870 года, в результате которых прусская армия вынудила войска маршала Баэена сосредоточиться в Меце.
знамя выходило изрубленным, продырявленным, сквозным от ран; но нес его неизменно старик Орню.
Читать дальше