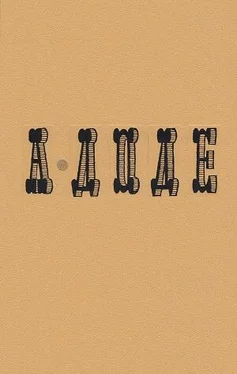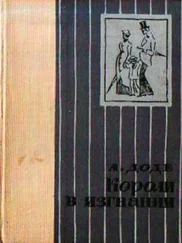Вечером, когда старик Розен вернулся в Сен-Мандэ, княгиня встретила его с самой невинной улыбкой. Он понял, что его провели, и даже не заикнулся об этом происшествии. Тем не менее оно получило огласку. Кто знает, через какие щели в гостиных или в передних, через опущенное окно какого купе, через какое эхо, отраженное глухою стеной с никогда не отворяющимися дверями, распространяется по Парижу скандальный слух, сначала втихомолку, а затем громогласно, то есть попадая на первую страницу светского листка и обращаясь уже сразу ко многим, достигая множества ушей, из забавного анекдота, рассказанного в клубе, превращаясь в великое позорище? Целую неделю весь Париж смеялся над приключением маленького разносчика. Имена в силу того, что это были имена высоких особ, произносились шепотком и так и не проникли сквозь толстую кожу Герберта. Однако до королевы, по-видимому, что-то дошло, — после тяжелого объяснения в Любляне Фредерика ни разу не позволила себе сделать королю ни одного замечания, а тут вдруг однажды по выходе из-за стола она отвела его в сторону.
— Все только и говорят об одной скандальной истории, в которой замешано ваше имя… — не глядя на него, строго заговорила Фредерика. — О, не оправдывайтесь! Я ничего больше не желаю слышать… Но только подумайте о том, что вы призваны оберегать. — Она показала ему на корону, притушенно сверкавшую под хрустальным колпаком. — Постарайтесь вести себя так, чтобы ни бесчестье, ни глумление не коснулось ее… чтобы вашему сыну не стыдно было ее носить.
Все ли ей было известно? Подписала ли она мысленно настоящее имя под женской фигурой, которую полуобнажило злословие? Фредерика была сильная женщина, и она так хорошо владела собой, что никто из ее приближенных не мог бы это сказать наверное. Но Христиан воспринял слова королевы как предупреждение, и боязнь историй и сцен, потребность этого слабохарактерного человека постоянно видеть, что на улыбку, в которой отражается вся его беззаботность, ему тоже неизменно отвечают улыбкой, вынудили его достать из клетки самую красивую, самую ласковую из всех своих обезьянок и подарить ее княгине Колетте. Колетта написала ему, он не ответил; он как будто не замечал ни ее вздохов, ни грустных взглядов, — он продолжал говорить с ней тем небрежно-учтивым тоном, который так нравился женщинам, и наконец, избавившись от угрызений совести, мучивших его тем сильнее, чем быстрее шло на спад его увлечение, освободившись от любви Колетты, в своем роде не менее тиранической, чем любовь его жены, очертя голову кинулся в водоворот наслаждений, — выражаясь ужасным, расплывчатым, худосочным языком хлыщей, он только и делал что «прожигал жизнь». В тот год это выражение было модным в клубах. Теперь, по всей вероятности, есть какое-нибудь другое. Слова меняются, зато неизменными и однообразными остаются знаменитые рестораны, где делаются дела, салоны, где много золота и цветов и куда публичные женщины высшего полета являются по приглашению к таким же, как и они; остается прежней раздражающая пошлость увеселений, для которых уже никогда не настанет обновление и которые вырождаются в оргии. Что не меняется, так это классическая глупость оравы хлыщишек и потаскушек, клише их жаргона и их остроумия, — их мир, несмотря на всю свою кажущуюся бесшабашность, не менее мещанский, не менее скованный условностями, чем тот, другой, не способен что-нибудь выдумать: это беспорядок в определенных рамках, это самодурство по программе сонной, одеревенелой скуки.
Король — тот по крайней мере прожигал жизнь с запалом двадцатилетнего юнца. Он утолял свою страсть удирать из дому, которая в первый же вечер по приезде в Париж погнала его в Мабиль, он удовлетворял свои желания, давно уже пробужденные в нем на расстоянии чтением некоторых парижских газет, ежедневно предлагающих вниманию читателей соблазнительное меню рассеянной жизни, пьесами, романами, рассказывающими о ней и, в расчете на провинциалов и на иностранцев, рисующими ее в розовом свете. Связь с г-жой Розен некоторое время удерживала его на обрыве доступного наслаждения, похожего на лесенки в ночных ресторанах: наверху они ярко освещены, застелены мягкими коврами; когда же настает предрассветный час — час мусорщиков и взломщиков, то чем ниже ты по ним спускаешься, тем сильнее тебя разбирает хмель, и чем ближе к открытым дверям, откуда несет холодом, тем они круче, а выводят они прямо к сточным канавам. Теперь Христиан самозабвенно катился, летел вниз, раззадоривала же его и кружила ему голову сильнее, чем десертное вино, та малочисленная свита, та клика, которой он себя окружил: промотавшиеся дворянчики, подстерегавшие дурачков в сане королей, жуиры-газетчики, которым он платил за удовольствие прочитать о себе заметку и которые, гордясь своей близостью к знаменитому изгнаннику, водили его за кулисы, где артистки, оживленные, будившие в нем чувственность, с растекшимися румянами на эмалевых щеках, не спускали с него глаз. Легко овладев языком бульваров со всеми его словечками, с его пристрастием к преувеличениям, с его невыразительностью, он говорил как заправский пшют: «Шикарно, очень шикарно… Это гнусь… Ерундистика…», но у него это выходило менее вульгарно благодаря иностранному акценту, который облагораживал этот жаргон, сообщал ему привкус чего-то цыганского. Особенно он любил слово «забавно». Он употреблял его по всякому поводу, кстати и некстати. Пьеса, роман, события политические, события в частной жизни — все было забавно или незабавно. Это слово избавляло государя от необходимости думать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу