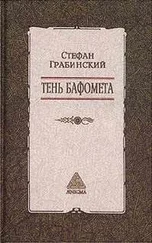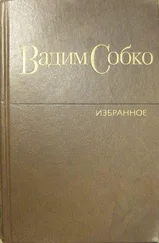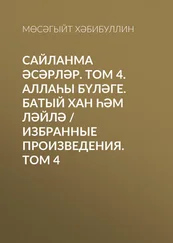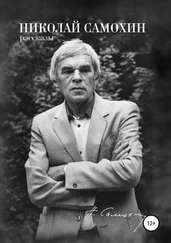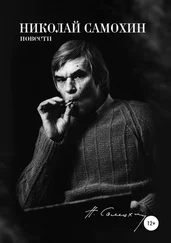Проходили недели, месяцы. Нам надоело провожать войска, и мы придумали новое развлечение — удили утром мелкую рыбешку и затем лакомились своим уловом в дешевом кабачке. Вода была ледяная. Жюльен простудился и чуть не умер от воспаления легких. В коллеже про войну уже не говорили. Мы еще больше погрузились в переводы Гомера и Вергилия. Неожиданно мы узнали, что французы одержали победу, и это нисколько нас не удивило. Потом опять, но теперь уже в обратном направлении, стали проходить войска. Однако мы ими уже не интересовались. Два-три полка привлекли наше внимание — ряды их сильно поредели. Нет, полки были уже не столь ослепительны, как прежде. Так предстала Крымская война перед учениками провинциального коллежа.
В 1859 году в Париже я заканчивал свое обучение в коллеже Людовика Святого. Там же учились Луи и Жюльен, мои школьные товарищи из Экса. Луи готовился к вступительным экзаменам в Политехническую школу. Жюльен собирался поступать на юридический факультет. Мы все трое были приходящими учениками.
В то время мы уже не были дикарями, ничего не ведающими о современных событиях. Париж нас научил уму-разуму. И когда началась Итальянская кампания, мы понимали, какие политические причины ее вызвали. Мы рассуждали о войне, как настоящие стратеги и государственные деятели. В коллеже все живо интересовались кампанией и следили по картам за передвижением войск. На уроках мы отмечали флажками различные позиции, проигрывали и выигрывали сражения. Чтобы не отставать от событий, мы покупали невероятное количество газет. Приносить их поручалось нам, приходящим. Поэтому карманы наши были всегда оттопырены, пачки газет, спрятанные под пальто, покрывали нас с ног до головы, как латы. Во время занятий газеты обходили класс, никто не интересовался уроками, каждый, спрятавшись за спиной соседа, жадно поглощал газетные заметки. Большие листы, чтобы их не было видно, делили на четыре части и прятали в учебниках. Не все преподаватели были простофилями, но они смотрели на эти проделки сквозь пальцы, терпеливо, полагая, что лентяев не исправишь.
Первое время Жюльен только пожимал плечами. Он страстно полюбил поэтов тридцатых годов и всегда носил в кармане томик Мюссе или Гюго, стихи которых читал на уроках. Когда ему передавали четвертушку газеты, он, даже не заглянув в нее, пренебрежительно передавал листок следующему и продолжал читать стихи. Ему казалось чудовищным, что можно преклоняться перед солдатами. Но после потрясения, перевернувшего всю его жизнь, он в корне изменил свои взгляды.
В один прекрасный день, провалившись на экзаменах, Луи отправился добровольцем на войну. Этот безрассудный шаг он задумал уже давно. У него был дядя генерал, по стопам которого Луи хотел пойти. Он думал, что можно обойтись без школьной зубрежки. К тому же после окончания войны он мог попытаться поступить в Сен-Сир. Новость потрясла Жюльена. Он уже не был мальчиком, запальчиво выступавшим против войны с наивными доводами чувствительной девицы, но по-прежнему страстно ненавидел войну. Он старался держаться настоящим мужчиной, и ему удалось не заплакать. И вот, как только его брат ушел на фронт, он стал из всех нас самым одержимым читателем газет. Мы с ним приходили в лицей и уходили оттуда вместе. Тема наших разговоров всегда была одна и та же — предстоящие сражения. Помню, он каждый вечер тащил меня в Люксембургский сад и там, положив книги на скамейку, чертил на песке настоящую карту Северной Италии. Так он мысленно был с братом. Его сводил с ума страх, что Луи могут убить.
Даже теперь, раздумывая над этим, я с трудом понимаю, что же было источником такого страха перед войной. Жюльен не был трусом. Он только терпеть не мог физические упражнения, предпочитая им умственные занятия. Он считал, что высшее назначение человека — наука, и поэзия, которыми можно заниматься, закрывшись в кабинете. Столкновения на улицах, кулачные драки, фехтование, даже любые упражнения, развивающие мускулы, казались ему недостойными цивилизованной нации. Он презирал ярмарочных силачей, гимнастов, укротителей зверей. Надо добавить, что он не был патриотом. Мы обливали его за это презрением, и я до сих пор помню, что в ответ он только улыбался и пожимал плечами.
Одно из самых ярких воспоминаний того времени — чудесный летний день, когда весь Париж облетела весть о победе под Маджентой. Стояли такие жаркие дни, какие у нас, во Франции, редко бывают в июне. Было воскресенье. Накануне мы с Жюльеном договорились пойти погулять на Елисейские поля. Он давно не получал писем от брата и очень за него беспокоился; мне хотелось развлечь беднягу. Я зашел за ним в час дня, и мы отправились на берег Сены. Мы шли небрежной походкой, естественной для школьников, когда они чувствуют, что за ними больше не следит надзиратель. Париж великолепен в эти жаркие праздничные дни. Тени от зданий резко чернеют на светлых мостовых. Ставни на окнах закрыты, между домами проглядывают полоски ярко-синего неба. Не знаю, бывает ли где-нибудь на земле так жарко, как в Париже, когда там стоит жара; все словно объято пламенем, нечем дышать. Многие улицы Парижа, а также набережные пустеют, — парижане бегут в пригородные леса. Как хорошо прогуляться тогда по этим широким и пустынным набережным! Вдоль тротуаров тянутся ряды густых невысоких деревьев, а там, внизу, величаво течет Сена, взад и вперед снуют пароходики, жизнь бьет ключом.
Читать дальше