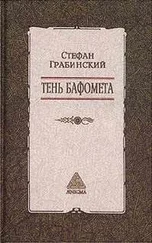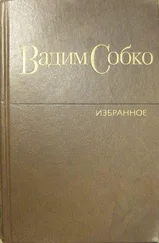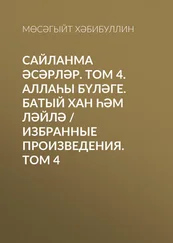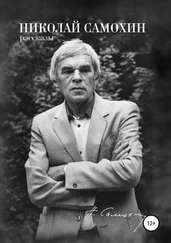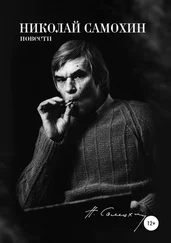Ее голос, ее движенья оскорбляют меня, вся ее особа меня раздражает. У нее нет никакой душевной тонкости, самые хорошие слова превращаются в ее устах в мерзкие, каждая ее улыбка наносит жестокую обиду. В ней все становится пакостным.
Я решил прикинуться нежным и подошел к Лоранс. Она сидела неподвижно, наклонясь к огню; когда я взял в свои руки ее холодные, безжизненные пальцы, она их не отняла. Тогда я притянул ее к себе. Она подняла голову и вопросительно поглядела на меня. Чувствуя на себе ее взгляд, я оттолкнул ее и отступил назад.
Чего же ты хочешь в конце концов? — спросила она.
Чего я хочу! Я готов был крикнуть ей: «Я хочу, чтобы ты рассталась со своим шелковым лифом, — стоит кому-то пожелать тебя, и этот лиф раскроется при первом же прикосновении. Я хочу, чтобы ты любила, чтобы в поцелуе любовника ты ощущала ласку брата. Хочу, чтобы наш союз не был сделкой, чтобы ты не продавала мне своего тела за право жить под моей кровлей. Сжалься, пойми меня, не наноси мне оскорблений!»
Но я промолчал, братья. Если б я ее любил, я, наверно, сказал бы все, и, быть может, она поняла бы меня.
Видимо, я был неловок и неосторожен. Я поторопился, зашел далеко, не спросив Лоранс, понимает ли она меня. Как мне обучать науке жизни, если я с жизнью незнаком? Чем я могу воспользоваться? Только системами, правилами поведения, созданными нами в шестнадцать лет, прекрасными в теории и нелепыми на практике. Достаточно ли того, что я люблю добро, тянусь к некоему идеалу добродетели, — туманные стремления с неопределенной целью!.. Но когда столкнешься с действительностью, как сумбурно выражаются эти желанья, как я бессилен в борьбе, на которую эта действительность сама толкает меня! Я не сумею объять действительность, не сумею ее победить, потому Что не знаю, как к ней подойти, и не могу честно сказать даже самому себе, какая победа мне нужна. Что-то кричит во мне: я не хочу истины, я не имею ни малейшего желания менять ее, делать ее хорошей из плохой, — ведь мне она кажется плохою. Пусть существующий мир остается; я дерзко хочу создать новый, не пользуясь обломками старого. И так как сооружение, возведенное моими мечтами, не имеет больше под собой опоры, оно рушится при малейшем толчке. Теперь я всего лишь бесплодный мыслитель, платонически влюбленный в добро; меня убаюкивают пустые грезы, мое могущество исчезает, едва я коснусь земли.
Да, братья, мне было бы легче наделить Лоранс крыльями, чем сердцем настоящей женщины.
Мы — взрослые дети. Мы не знаем, что делать с этой величественной действительностью, ниспосланной нам богом, и портим ее, ради забавы, своими мечтами. Мы живем так неумело, что жизнь становится для нас отвратительной. Надо научиться жить, и зло исчезнет. Если б я владел великим искусством проникновения в действительность, если б я сознавал, что такое рай земной, если б я умел различать несбыточные грезы и реально возможное, я заговорил бы, и Лоранс поняла бы меня. Я знал бы, что осудить в ней и что предложить ей в качестве примера. Эти тонкости помогли бы мне понять причины ее падения и найти бальзам для ран ее сердца. Но как быть, если мое неведение воздвигает преграду между нами? Я — это мечта, она — действительность. Мы будем идти рядом, не встречаясь, и когда наше странствие придет к концу, она так и не постигает меня, я так и не пойму ее.
Я подумал, что мне надо вернуться назад, взять Лоранс такой, какая она есть, и заставить ее пройти тот путь, который способны преодолеть ноги простой смертной. Я решил изучать жизнь заодно с нею, спуститься вниз, чтобы попробовать подняться обратно вместе. Но так как мне придется ощупью продвигаться по этому тяжкому пути, надо начинать с исходной, самой низкой ступени.
Может быть, достаточной наградой будет то, что я добьюсь от нее такой горячей любви, на какую она только способна? Наши мечты не только обманчивы, братья; я чувствую, что они ничтожны, по-детски неразумны в сравнении с действительностью, которую я начинаю понимать. Бывают дни, когда в еще большей дали, чем солнечные лучи и ароматы, в еще большей дали, чем эти неясные, ускользающие от меня виденья, передо мной мелькают четкие контуры реально существующего. И я понимаю, что именно там жизнь, деятельность, правда, а созданную мною среду населяет какой-то суетливый, чуждый всему человеческому народец, пустые тени, чьи глаза не видят меня, чьи уста не знают, как со мной говорить. Такие холодные немые друзья могут нравиться ребенку: он боится жизни и ищет прибежища в неживом. Но нас, взрослых людей, не может удовлетворить вечное небытие. Наши руки созданы, чтобы обнимать живое.
Читать дальше