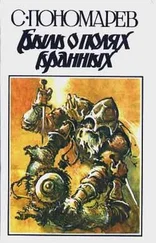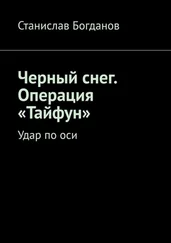На бревне Антон Элю не узнавал. Не в том дело, что она два раза падала. Он понимал — никто еще не готов, на нынешней тренировке можно увидеть лишь завязь будущих плодов. Антону не понравилась как раз излишне четкая и сухая отделка тех элементов, которые особенно удавались Эле. «Скупится, — подумал он. — Все на «тютелька в тютельку», на надежность, а души нет, и характера тоже не видно». Исчезло то, что прежде одухотворяло гимнастическую работу его ученицы. «Вот ведь может Астахова, — думал он, — может показать просто небрежный еще эскиз, набросок, а один кусочек взять и пропеть в полный голос, и сразу понимаешь вот что это готовится, и вот кто Полина Астахова с ее нежной и задумчивой натурой». А Эля была не та — совсем другая была Эля. Хотя она явно понравилась руководящим женщинам больше всех других.
И вольная ее комбинация, которую остальные гимнастки смотрели весьма внимательно: Латынина — улыбаясь и быстро шепча что-то Маниной, Муратова — сжав губы и прикидывая нечто свое, Астахова — застыв на углу ковра, словно струйка дыма в тихую погоду; эта комбинация, которую наизусть, от медленного «Еще в полях белеет снег» до бурной концовки «румяный, светлый хоровод толпится весело за ней», помнил Антон — все это было то, да не то.
Потом он не вытерпел, подошел к ней, выбрав минуту, когда она оказалась в стороне от других.
— Ой, как хорошо, что ты здесь! — она замотала головой, и челка взлетела и опустилась на влажный лоб. — Даже не представляешь, как хорошо! Ну как я, Тошка, ты все видел? Как?
— Слушай, а почему ты на бревне фляк не делаешь? Помнишь, там было — все дождик, дождик, а потом радуга?
Она незнакомо сощурилась.
— Понимаешь, Тошка, очень много нервов на него уходит. Трудный он, а судьи как-то не замечают. Ну, какой смысл?
«Забыла. Все забыла: и радугу, и водопад, словно родной язык забыла, — со страхом подумал Антон. — Забыла, как же это, я ведь виноват! Плевать бы мне на самолюбие, ездить, домогаться, лезть, это же мое, как я мог?»
— Извини, Тошенька, меня зовут. Ты подожди меня, ладно? Смотри, подожди, дай честное слово, что не уйдешь.
И она убежала.
Он ждал.
Она подошла.
— Тош, как обидно, нас увозят. Слушай, у тебя в школе зал есть? Можно, я приду к тебе позаниматься? Завтра в семь. Хотя нет, завтра у нас прием. В общем я тогда позвоню, когда смогу, ладно?
— Ладно, — сказал Антон сквозь сжатые до боли зубы. — Сможешь — придешь.
Зал опустел, и только та девочка, что просидела в своем углу всю тренировку, впивая взглядом жизнь людей взрослого, красивого и счастливого мира, стояла сейчас у брусьев, крепко ухватившись за них, выгнув спину подобно маленькому трепетному луку, закинув строгое лицо с сильно-пресильно зажмуренными глазами, — вспоминала.
Антон мимоходом взглянул на нее, сделал шаг к выходу и обернулся. И посмотрел снова. Подольше. И осторожно, чтобы не помешать, затворил за собой дверь. Постоял на площадке и улыбнулся. И медленно пошел вниз, все еще улыбаясь чему-то своему.
Часа два спустя Антона Туринцева видели на набережной. Он прислонился к парапету, и мимо него плыли черные баржи и белые речные трамваи, но он явно не видел их, а все только кивал и качал головой, словно в такт какой-то в нем самом звучащей музыке, и рисовал пальцами в воздухе одному ему понятные вавилоны.
Все-таки он псих, этот Антон Туринцев…