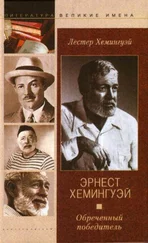Годом раньше погиб еще один, да еще подававший самые большие надежды. Звали его Мануэль Гарсия, «Маэра». Еще мальчишкой он был знаком с Хуаном Бельмонте в его бытность поденным рабочим в севильском предместье Триана, и тот на собственные деньги отправил Мануэля в школу тореро, где учили бою на молоденьких телятах. Хуан вместе с Маэрой и местным парнем по имени Варелито мечтали овладеть искусством плаща, и порой эта троица устраивала ночные вылазки: толкая перед собой бревно с керосиновой лампой и стопкой плащей, они вплавь преодолевали реку, а затем, голые и мокрые, перелезали через забор скотного двора в соседней Табладе, чтобы разбудить и раззадорить взрослого боевого быка. Пока Маэра держал лампу, Бельмонте отрабатывал на том пассы. Когда Бельмонте стал матадором, Маэра — высокий, смуглый, узкобедрый, со впалыми глазами и сизым подбородком даже после тщательного бритья, дерзкий, сутулый и серьезный, — последовал за ним в качестве бандерильеро. Он великолепно играл свою роль, и за годы совместной работы, проводя под сотню боев за сезон, имея дело со всевозможными быками, он узнал их как никто, не уступая даже Хоселито. Бельмонте никогда не работал с бандерильями, потому что плохо бегал. А вот Хоселито почти всегда лично втыкал бандерильи в своих быков, так что Маэра и был тем козырем, которым Бельмонте крыл Хоселито в их соперничестве. Как бандерильеро, Маэра ничем не уступал Хоселито, и Бельмонте сознательно заставлял своего ассистента носить самый нескладный, плохо сидящий костюм, — чтобы Маэра как можно больше напоминал пеона, чтобы зритель не замечал его уникальных личных качеств, чтобы он, Бельмонте, выглядел тем матадором, у которого даже простой бандерильеро может запросто помериться силами с Хоселито. В последний год карьеры своего начальника Маэра попросил поднять ему жалованье до трехсот песет за бой вместо прежних двухсот пятидесяти. Бельмонте отказался, хотя в ту пору получал по десять тысяч за выход на арену. «Ладно, — сказал ему Маэра. — Тогда я сам стану матадором и покажу тебе, как это делается». «Не смеши людей», — презрительно бросил Бельмонте. «Нет, это над тобой люди будут смеяться, когда я доведу дело до конца», — ответил ему Маэра.
Став матадором, Маэра поначалу спотыкался на ошибках, выдававших в нем типичного пеона, к примеру, он слишком много двигался (матадорам вообще не пристало бегать), с плащом работал неизящно. Он был одарен и техничен, но сыроват с мулетой; убивал не без вывертов, зато с первого раза. С другой стороны, быков он знал как облупленных, обладал бесстрашием до того непритворным, что играючи делал вещи, в которых сумел разобраться, а разбирался он во всем. А еще он был очень гордым. Самым гордым из виденных мною людей.
За два года он исправил все свои огрехи с плащом, выучился отменно управляться с мулетой; он всегда был одним из самых утонченных, эмоциональных и состоявшихся мастеров по втыканию пары бандерилий, а стал одним из лучших, доставляющих наибольшее удовольствие матадоров, которых мне когда-либо довелось наблюдать. Он был таким смелым, что заставлял краснеть робких стилистов, а сам бой быков был для Маэры столь важен, что в последний год жизни одно его появление на песке вытаскивало корриду из застойного болота, где первенствовали нежелание выкладываться, жажда скорейшей наживы и пассивное ожидание «механического быка». Когда выходил Маэра, на арене вновь царили достоинство и страсть. Его имя означало, что вечер удастся хотя бы на треть, с двумя быками, а заодно всякий раз, когда ему приходилось вмешиваться в бои с оставшейся четверкой. Если бык не шел навстречу, он этого не выпячивал, не просил у публики терпения и сочувствия, а сам шел к быку: дерзко, по-хозяйски, напрочь презирая опасность. Он неизменно давал зрителю эмоции и, наконец отшлифовав стиль, превратился в артиста. Однако в последний сезон было уже видно, что человек стоит на краю могилы. Его пожирала скоротечная чахотка, и врачи предвещали смерть к концу года. Его дважды ранило, но он не обращал на это внимания. Как-то раз, в четверг, Маэра получил пятидюймовую рану под мышкой, а в воскресенье я уже видел его в бою. Рану перевязывали до и после схватки, я сам был этому свидетелем, однако он, как я и сказал, не обращал на это внимания. Болело, должно быть, жутко — рана рваная, нанесена обломавшимся рогом, и прошло всего-то два дня, — а он плевать хотел на мучения. Вел себя, словно боли не было вовсе. Руку не берег, не прятал, не избегал ее поднимать; просто-напросто ее игнорировал. Боль уже не могла до него добраться, он слишком далеко ушел. Никогда я не видел человека, который был бы столь жаден до отпущенного времени, как Маэра в тот сезон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу