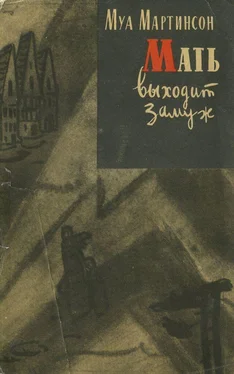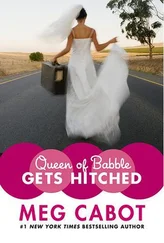Когда Ион, шатаясь, полез наверх в свою комнату, я последовала за ним. Я рассуждала так: в ушах у старика просто-напросто нет дырочек, и теперь-то я уж увижу это чудо. Быть может, у меня даже мелькнула тогда смутная мысль предложить старику просверлить в ушах дырочки. Ведь это совсем не трудно сделать, зато он будет слышать…
Старик подошел к столу и наполнил несколько стаканов. Что он в них налил, воду или водку, я не знала. Поставив стаканы на плиту, он чокнулся с воображаемыми собутыльниками, выпил, закричал и замахал руками, потом вышел на середину комнаты и опрокинул стул. Опорожнив один за другим все стаканы, он спокойно уселся у печки.
Я решила, что пора действовать, тихо подкралась к сидевшему с закрытыми глазами Иону и заглянула ему в ухо, потом в другое.
Там были дырочки. Я увидела обычные, как у всех людей, уши, и у меня сразу пропал всякий интерес к старику, захотелось поскорей уйти. Каморка была такая мрачная и грязная. Мне вдруг страшно захотелось очутиться в нашей чистой, светлой комнате, где накрахмаленные шторы, диван с желудями и вазы, в которых стоят листья.
Но уйти с чердака оказалось не так-то просто. Только я приблизилась к двери, как старик залепетал:
— Девочка, девочка…
Он был так страшен, что я не посмела сделать и шагу дальше. Теперь только, потеряв к нему всякий интерес, я увидела какой он страшный, противный и грязный, и к тому же я не забыла, как он грозил зарезать свою старуху и какой он вообще гадкий и злой. Я очень перепугалась и заползла в угол.
Ион снова начал чокаться и шуметь.
Я слышала, как внизу, в сенях, меня звала мать: она ведь послала меня за дровами, — но ответить я не посмела. Ходить за дровами было для меня хуже всего наказания. По мне, приятнее было целый день таскать траву с пастбища, чем принести в комнату одну-единственную охапку дров. Носить дрова — что может быть скучнее? Но сейчас я поклялась себе наполнить дровами целый ящик и делать все, о чем попросит мать, только бы выйти отсюда. Мать окликнула меня еще несколько раз, но я не отзывалась. Старик мог задушить меня, а если бы мать узнала, что я была здесь, она бы непременно меня выпорола.
Старик снова уселся у печки. Каждый раз, когда он терял равновесие и падал со стула, он отчаянно ругался и так колотил кулаками в стену, что отваливались большущие куски штукатурки, а в углу надо мной столбом поднималась пыль. Так прошло несколько часов. Сгустились сумерки, и старик наконец свалился на пол и захрапел. Тогда я тихонько выскользнула на улицу, пробралась к дровяному сараю и вошла в комнату с охапкой дров как раз в ту секунду, когда мать всерьез собиралась начать поиски. Она крепко схватила меня за волосы.
— Я ходила в поле к дя… к папе, — тотчас поправилась я, пытаясь умилостивить ее.
— Зачем он тебе понадобился?
— Его там не было, я не знаю, где он, — ответила я, чтобы избежать дальнейших расспросов.
— Не смей больше уходить из дому без разрешения, а то я тебя выпорю, — лицо у матери было злое и строгое.
Остаток дня я неутомимо носила дрова и даже не заикалась о послеобеденном кофе, хотя от голода сводило живот.
— У, чертов старик с дурацкими ушами! — бормотала я.
В следующий раз, когда старик опять начал буйствовать, прибежала старуха и попросила Гедвиг «одолжить» на время девочку, которая так хорошо умеет обращаться с ее пьяным мужем.
Но Гедвиг не «одолжила» девочку, она только спросила, не рехнулась ли старуха после всех справленных Ионом «свадеб».
Глухие старики, в ушах у которых все-таки были дырки, уже больше не занимали меня.
Но однажды со мной произошло что-то и впрямь удивительное.
Случилось это все на том же хуторе, куда по воскресеньям во всей красе являлись «образованные»; мать была все такой же усталой и безответной.
Еда меня не очень интересовала, а сидеть за обедом было настоящей мукой. И, если мне давали большой кусок хлеба, я могла целый день и не вспоминать о еде, лишь бы меня оставили в покое. Кроме меня, на хуторе не было других детей, там жили только старики и батраки-сезонники. Но приходили ребята с других хуторов, и жизнь тогда снова становилась прекрасной — в нашем распоряжении была целая лужайка, а это кое-что значило для того, кто вырос на задворках городских трущоб.
Ради еды, как я уже сказала, я бы не стала особенно стараться, но было одно лакомство, которое толкнуло меня на преступление: леденцы, самое соблазнительное лакомство 1902 года, — одинаково соблазнительное для бедных и для богатых. Из всех лакомств, выставленных в витринах магазинов, леденцы были самым любимым, а за ними уже шли орехи в пакетиках. Леденцы привлекали нас своим аппетитным цветом и красивой формой.
Читать дальше