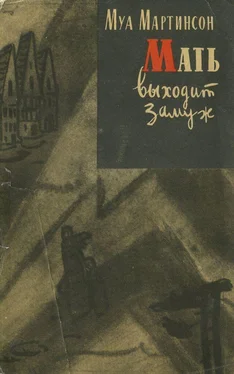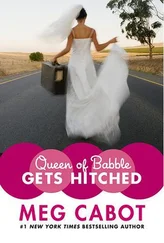На шторе, которую я несла, была изображена девочка, идущая п о воду через выгнутый мостик. А мне казалось, что это живая девочка идет по воду. И долго еще после этого, лежа вечерами в постели, я пыталась представить себе место, где жила девочка. Видно, она мыла полы, раз у нее юбка подоткнута. И как бы мне раздобыть такие же красивые деревянные башмаки? Я никогда не видела таких башмаков, даже когда стала взрослой и побывала на самых больших ярмарках мира.
Мы с матерью брели по старой широкой дороге, старой-старой, одной из самых древних в стране. Стоял солнечный, теплый апрель.
Отчим уже был там и работал на хуторе. Мы весь день будем с матерью совершенно одни! Вдвоем с матерью! Впервые с тех пор, как я родилась, а ведь мне вот-вот исполнится семь лет!
Почти всю мебель — комод, кровать, стол, несколько стульев — подарила нам приемная мать отчима. Добротные вещи из березы. Только диван купили новый — коричневый, с украшениями в виде желудей на спинке, всего шестьдесят четыре желудя, — он был куплен специально для меня.
И вот мы на пути к нашему первому жилищу. На пригорке стоит беленький домик с очень высоким крыльцом. В одном из окон показалось чье-то лицо, прижавшееся к стеклу, — нас с любопытством рассматривали.
Мать достала ключ и открыла в сенях первую дверь налево..
— Ух ты! — только и сказала я.
Мать, видно, уже успела побывать здесь и навести порядок. В комнате было два окна. На них висели длинные белые занавески. Занавески были старенькие: их тоже подарила бабушка, а мать заштопала и подкрахмалила. Белое покрывало на кровати, белая скатерть на столе, а на полу — новые лоскутные половики, которые мать сама шила по вечерам, после работы на фабрике. Я прежде часто плакала, когда мать таскала меня к бабушке в Вильберген, — мне трудно было ходить так далеко, — но зато теперь у нас были новые половики, а у печки — охапка можжевеловых веток.
По другую сторону сеней находилась общая кухня. Мать сказала, что там готовят и пекут хлеб те, у кого только одна комната.
— А ведь это хорошо, — добавила она, — не будет копоти.
Но старые жильцы полностью завладели кухней. Мать же была чужой и к тому же с фабрики — «фабричная косточка», как называли работниц добропорядочные деревенские женщины, — так что готовить нам пришлось в комнате.
На березовом комоде стояло несколько уже знакомых мне картинок, я не раз видела их у бабушки. Как легко мне было звать мать отчима «бабушкой» и как трудно его — «отцом»! Тут же на комоде стояли две красивые вазы, а в них ольховые ветки с маленькими черными шишечками.
(И теперь, почти сорок лет спустя, эти вазы с ольховыми ветками и черными шишечками стоят у меня на полке. Мать всегда очень берегла вещи, хотя ей так часто приходилось распаковывать и упаковывать их. Вазам, верно, больше ста лет: бабушке их подарила свекровь к свадьбе, да и тогда уже они не были новыми. Почти пять поколений бедняков пережили эти вазы.)
А вот стоит мой новый диван с желудевыми шишечками.
Весь день я молча просидела в комнате. Как все здесь непохоже на то, к чему я привыкла у тетки, — маленькая комнатка, столующиеся возчики, озорные ребятишки, постоянный шум на лестницах и ужасный грохот телег по булыжной мостовой!
Мать тоже молчала. Мы не выходили из комнаты. Я сидела на диване, который будет принадлежать мне, только мне одной, а ведь раньше я так часто спала на полу или с кем-нибудь другим.
Рядом мать, которая теперь всегда будет дома, и я смогу говорить с ней, когда только захочу что-нибудь сказать, — а это случалось довольно часто.
То был самый приятный день моего детства. Впервые я по-настоящему поняла, что значит слова «родной дом», «мать», и воспоминание об этом сохранилось на всю жизнь. Молчаливые и торжественные, пили мы кофе. Никакой кухонной посуды у нас тогда не было. Я припоминаю только жестяной кофейник за пятьдесят эре.
К вечеру вернулся отчим.
Всего полдня у нас с матерью был свой дом.
Я так и не полюбила отчима — вероятно потому, что он отнял у меня мать и был с нею очень груб, даже бил… А потом у матери стали появляться другие дети — его дети. Их я поэтому тоже не любила. Когда они умирали, — а ни один из них не прожил и года, — я горько плакала, раскаиваясь в том, что не любила их.
В день, когда мне исполнилось девять лет, я спросила у матери:
— Я помню, кто-то в фартуке с широкими красными полосами держал меня на коленях и кормил малиной с молоком. Где это было?
Читать дальше