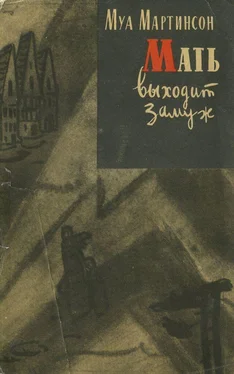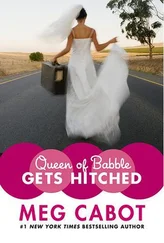Вслед за учительницей поворачивались и мы и тоже сердито смотрели на задыхающуюся от кашля бедняжку. Надо сказать, никто из нас не был настолько великодушным, чтобы подумать о том, как тяжко страдает «желтая кляча» оттого, что мешает нам, оттого, что из-за нее на шее у нервной фрекен выступают багровые пятна. Мы следовали примеру фрекен: стоило девочке закашляться, как мы тут же поворачивались и уже не спускали с нее глаз до тех пор, пока не проходил приступ. Я никогда не оглядывалась назад, но чувствовала, что только один Альвар не поворачивает головы вслед за фрекен. Вероятно, он меньше нас беспокоился о том, что кашель мешает уроку… Вот так и получается, что одна нервная фрекен воспитывает сотни других нервных фрекен. Ведь она — единственный авторитет для человека, которому едва исполнилось семь лет.
После таких «разглядываний» больная девочка часто отсутствовала по нескольку дней. Весной она умерла. Мы хоронили ее, пели над могилой и украсили холмик венками.
Фрекен принесла две красные розы и положила их на могилку маленького истощенного создания. Розы странно напоминали красные пятна, появлявшиеся на шее фрекен всякий раз, как девочка начинала кашлять.
Но вернемся к Альвару. Он вечно ничего не знал. Даже читать он как следует не научился. Одежда его была в самом жалком состоянии, он давно из нее вырос; пуговиц вовсе не было, ворот расстегнут.
Он был удивительно добр и так простодушен, что одурачить его ничего не стоило.
Я обманула его только один раз, но и этого достаточно. До сих пор меня бросает в жар при одном воспоминании о том случае. Собственно говоря, злого умысла у меня не было, но все-таки я прекрасно знала, что моя проделка доставит ему неприятность. Почему человек так рано начинает радоваться чужим неудачам, особенно если его самого жизнь не баловала? Во всем была виновата фрекен, и моя любовь к ней с тех пор не увеличилась. Однажды она задала нам совершенно идиотский вопрос: «Как называется детеныш осла?» Мы были еще совсем маленькие, никто из нас никогда не видел осла даже на картинке, — откуда нам было знать, как называется его детеныш?
— Наверное, овца или баран, — шепнула я Альвару.
Он сразу же поднял руку.
— Неужели ты знаешь? Вот удивительно, — проговорила фрекен, кисло улыбнувшись.
С пылающими щеками я обернулась и посмотрела на Альвара. Он был бледнее обычного. Слишком поздно он понял, что я подсказала ему какую-то глупость, и невнятно что-то пробормотал.
— Говори громче, как он называется?
— Овца или баран, — сказал Альвар.
— Подойди сюда!
Альвар сидел в середине, остальным тоже пришлось встать.
Я видела, как учительница вытащила линейку и как Альвар, защищаясь, наклонил голову вниз и поднял руку. Боже мой! Если б на его месте был кто-нибудь из хорошо одетых мальчиков, тогда было бы легче признаться, а этот оборвыш… Мгновение я колебалась, но, когда учительница подняла линейку, собираясь ребром ударить Альвара, — она была слишком благородна, чтобы бить рукой, а может быть, не хотела дотрагиваться до него, — я закричала:
— Подождите, подождите! Это я ему подсказала!
На шее у фрекен выступили багровые пятна, но лицо осталось по-прежнему бледным и невозмутимым. Кажется, меня больше всего разозлила тогда именно эта невозмутимость. Я и до сих пор видеть не могу таких лиц.
— Иди сюда тоже!
Я вскочила, прижимая к себе сумку, шмыгнула к двери и со всех ног бросилась домой.
— Она хотела меня поколотить, — выпалила я матери, которая стирала белье у жены мастера.
— Я вот ей покажу! Поколотить! — разозлилась мать. Она-то сразу поняла, кто хотел это сделать.
Вошла хозяйка.
— Скажите на милость! Разве занятия уже кончились? А я еще не успела разогреть обед для Анны.
— Нет, нет, еще не кончились. Девочка прибежала потому, что учительница хотела побить ее, — угрюмо сказала мать, намыливая белье с таким остервенением, что хозяйка, верно, подумала, будто она попусту тратит мыло.
— Слыханное ли дело — побить! С нашей Анной никогда этого не случалось. И ведь фрекен Андерсен такая милая. Она часто заходит к нам на чашку кофе… Лучшей учительницы и желать нечего.
— От кофе она не становится ни лучше, ни хуже, — проворчала мать.
Я видела, как разозлилась мать. Не нуждайся мы так сильно, хозяйке наверняка пришлось бы самой повозиться со своим бельем. Но отчим приучился проводить субботние вечера в городе, в трактире «Ион-пей-до-дна», и домой не приносил ни гроша. Вот почему мать продолжала молча стирать, хотя хозяйка все не уходила и не переставала защищать учительницу. Я успела проглотить за это время пару кусочков хлеба с маслом, которые были у меня в сумке, а потом стала помогать матери (так во всяком случае мне тогда казалось).
Читать дальше