— Адмирал, не говорите так… Смотрите, здесь…
— Что? Я не боюсь… Свинство!
— Ладно, — сказал Женелисио, — мне на улицу Первого марта, и…
Он распрощался и пошел — мелкими, опасливыми шажками, в своем свинцовом костюме, сутулый, глядя себе под ноги сквозь голубые стекла пенсне. Алберназ и Калдас еще немного поговорили и простились, как всегда, по-дружески, держа при себе свои огорчения и разочарования.
Они были правы: мятежу оставалось всего несколько дней. В залив вошла правительственная эскадра; офицеры-мятежники бежали на португальских военных кораблях, и маршал Флориано сделался хозяином залива. В тот день немалая часть населения, опасаясь пушечного обстрела, перебралась из города в предместья, под укрытие деревьев — к друзьям или в сараи, специально сооруженные властями.
Надо было видеть ужас, написанный на их лицах, смешанный с унынием и беспокойством. Они тащили с собой узлы, корзины для рыбы, чемоданчики, плачущих младенцев, любимых попугаев, домашних собачек, певчих птиц, разгонявших тоску в домах бедняков.
Больше всего внушала страх динамитная пушка из Нитероя, громогласное американское изделие, жуткое орудие, способное вызывать землетрясения и сотрясать подножия гранитных гор в Рио. Дети и женщины находились вне досягаемости ее снарядов, но все же боялись грохота выстрелов. А между тем пушка — этот продукт фантазии янки, этот кошмар, эта почти стихийная сила — умирала, брошенная на набережной, безобидная, неопасная.
Окончание мятежа принесло облегчение — таким однообразным сделался он к этому времени. Маршал, одержавший победу, теперь казался кем-то вроде сверхчеловека.
Куарезма как раз получил разрешение на выписку. Из его батальона выделили отряд, чтобы образовать гарнизон на острове Эншадас. Иносенсио Бустаманте, как и прежде, проявлял немало рвения, командуя частью из своего кабинета в доме, предназначенном на снос и послужившем им казармой. Все записи были сделаны прекрасным почерком и регулярно обновлялись.
Поликарпо очень неохотно согласился на роль тюремщика — на остров Эншадас свезли пленных моряков военного флота. После этого назначения его душевные терзания стали еще сильнее. Он почти не смотрел на заключенных — из стыда и из сострадания; ему казалось, что кто-то из них знает о его тайных муках совести.
Так или иначе, обрушился весь строй мыслей, заставивший его принять участие в гражданской войне. Он не нашел Сюлли и тем более — Генриха IV. Кроме того, ни один из встреченных за это время людей не был способен воплотить в жизнь его главную идею. Все они либо имели детские представления о политике, либо действовали из корысти: ими не двигали никакие высокие побуждения. Даже молодежи, довольно многочисленной, были свойственны либо низкие корыстные помыслы, либо бездумное преклонение перед республиканской формой правления, преувеличение ее достоинств, а также поддержка деспотизма, которого Куарезма, после всех своих наблюдений и размышлений, не одобрял. Его разочарование было велико.
Узники теснились в бывших аудиториях и жилых помещениях, некогда занятых кадетами. Здесь были простые матросы, младшие офицеры, писари, кочегары и машинисты. Белые, черные, мулаты, метисы, люди самых разных цветов кожи и убеждений, ввязавшиеся в эту авантюру из привычки повиноваться и совершенно равнодушные к сути конфликта, силой оторванные от домашнего очага или от беззаботной уличной жизни, еще совсем юные — или завербовавшиеся от нужды; темные, неученые люди, порой жестокие и испорченные, как ничего не соображающие дети, порой добрые и ласковые, как ягнята, но всегда — безответственные, лишенные политических убеждений и собственной воли, простые автоматы в подчинении у вождей и начальников, которые отдали их теперь на милость победителя.
Вечерами он обычно прогуливался, глядя на море. Дул легкий ветерок, чайки ловили рыб. Мимо проплывали суда — дымящие паровые боты, зашедшие в залив, маленькие лодки и ялики, едва касающиеся воды, кренящиеся то в одну, то в другую сторону, словно надутые белые паруса на их высоких мачтах тянулись к блестящей поверхности с бездной под ней. Органы понемногу исчезали в лиловом мареве, все остальное вокруг было синим, и эта бесплотная синева опьяняла, одурманивала наподобие крепкого ликера.
Куарезма долго смотрел на все это. На обратном пути он окинул взглядом город, который постепенно окутывался мраком, покрываемый горячими поцелуями заката. Спускалась ночь, а майор все еще брел по берегу, погрузившись в раздумья, страдая от воспоминаний о ненависти, крови и жестокости. И общество, и жизнь казались ему чем-то ужасным. Как считал Куарезма, оба они порождали преступления, которые само же общество порицало, карало и стремилось не допустить. Мысли были черными и безнадежными, и ему не раз начинало казаться, что бредит.
Читать дальше
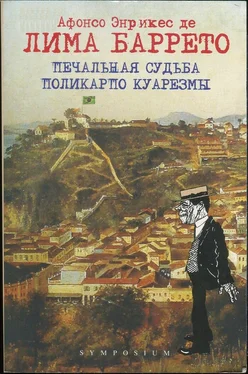
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)






