— Не знаешь, приятель, какие военные корабли на их стороне?
— «Акидабан». И «Луси».
— «Луси» — не военный корабль.
— Да, сеньор, вы правы. «Акидабан». Кораблей у них много, сеньор.
Вмешался генерал. Он заговорил мягко, почти отеческим тоном, употребив соответствующее обращение — из тех, которые делают общение с младшими в чине менее сухим и почти семейным:
— Ну-ну, сынок, отдыхай. Надо бы тебе пойти домой… А то у тебя могут украсть саблю, и тогда придется быть тише воды ниже травы.
Генералы продолжили путь и вскоре оказались на платформе. На небольшой станции было довольно оживленно. В ее окрестностях жило множество офицеров — действующих, отставных и почетных; развешанные объявления призывали предстать перед соответствующим начальством. Алберназ и Калдас прошли по платформе. Справа и слева им отдавали честь. Генерала знали лучше, в силу особенностей его службы, адмирала — хуже. Порой слышались вопросы: «Кто этот адмирал?» Калдас был доволен, испытывая некоторую гордость за свой чин и свою малую известность.
На платформе была лишь одна женщина, скорее, девушка. Алберназ посмотрел на нее и вспомнил о своей дочери Немении. Бедняжка!.. Как она там? Это сумасбродство… Когда все это прекратится? Слезы выступили на его глазах. Ее уже осмотрели с полдюжины врачей, но ни один не справился с помешательством, которое все больше овладевало разумом девушки.
От мыслей о дочери его отвлек грохот поезда, громко стучавшего колесами, яростно свистевшего и выпускавшего тяжелую струю дыма. Наконец, чудовище, полное солдат в форме, промчалось, но рельсы дрожали еще какое-то время.
Появился Бустаманте, проживавший неподалеку; он собирался сесть в поезд, чтобы явиться к начальству. На нем была старая форма времен Парагвайской войны, скроенная по образцу той, что носили в Крымскую войну. Кивер в форме усеченного конуса был словно сдвинут вперед. С фиолетовой лентой, в узком мундире, он как будто сошел, сбежал, спрыгнул с картины Виктора Мейреллеса.
— Вы здесь? Что случилось? — осведомился почетный майор.
— Мы прошли через парк, — объяснил адмирал.
— Видите ли, друзья, трамваи идут слишком близко к берегу… Я не боюсь смерти, но хочу умереть, сражаясь, а принять смерть вслепую, не зная, что тебя ждет, — это не для меня…
Генерал говорил слишком громко, и молодые офицеры, стоявшие поблизости, посмотрели на него с плохо скрытым порицанием. Поняв это, Алберназ тут же прибавил:
— Я прекрасно знаю, что такое стоять под пулями… Не раз бывал под огнем… Знаете, Бустаманте, в Курузу…
— Это было ужасно, — заметил Бустаманте.
Подъехал поезд — медленно, спокойно; черный как ночь паровоз с фонарем впереди — глазом циклопа, — сопя и обливаясь обильным потом, он напоминал некое сверхъестественное видение. Состав сотряс всю станцию и наконец остановился. В набитых вагонах было много офицеров; глядя отсюда, казалось, что гарнизон Рио составляет не меньше ста тысяч человек. Военные весело переговаривались между собой, штатские выглядели молчаливыми и подавленными, даже испуганными. Если они и говорили, то шепотом, опасливо глядя на задние скамьи. Достаточно было одного нелестного замечания, чтобы лишиться работы, свободы, а может быть, и жизни. Восстание только началось, но режим, со своей стороны, уже опубликовал пролог к нему: все были предупреждены. Глава полиции представил список подозрительных лиц — при его составлении не учитывались ни положение в обществе, ни заслуги. Преследованиям со стороны властей одинаково подвергались и бедный курьер, и влиятельный сенатор, и профессор, и простой клерк. Кроме того, появилось много возможностей для мелкой мести, для придирок по мелочам… Все распоряжались; власть принадлежала всем.
От имени маршала Флориано любое должностное лицо или даже простой нечиновный гражданин арестовывали других, и горе тем, кто попадал в тюрьму! Они томились там, забытые всеми, подвергаясь изощренным, разве что не инквизиторским пыткам. Чиновники старались перещеголять друг друга в угодничестве и лизоблюдстве. Наступил террор — негласный, трусливый, скрытый, низменный, кровавый, неоправданный, бессмысленный и безответственный. Совершались смертные казни, но не нашлось ни одного Фукье-Тенвиля. [25] Антуан Фукье-Тенвиль (1746–1795) — общественный обвинитель Революционного трибунала в годы Великой французской революции.
Военные были довольны, особенно младшие офицеры — прапорщики, лейтенанты, капитаны. Большинство из них получали удовлетворение от того, что их власть теперь распространялась не только на взвод или роту, но и на всю эту толпу штатских; другие же испытывали более чистые, бескорыстные и искренние чувства. То были приверженцы злосчастного, лицемерного позитивизма, педантичного, тиранического, ограниченного и узкого, оправдывавшего любое насилие, любое убийство, любую жестокость во имя поддержания порядка — они утверждают, что это обязательное условие прогресса и установления справедливого режима. О, эта религия человечества, поклонение великому фетишу под гнусавый вой труб, сопровождающий плохие стихи; наконец, рай с надписями, сделанными фонетическим алфавитом, [26] Речь идет о существовавшем в Бразилии движении за упрощение орфографии.
и народными избранниками в башмаках с резиновыми подметками!
Читать дальше
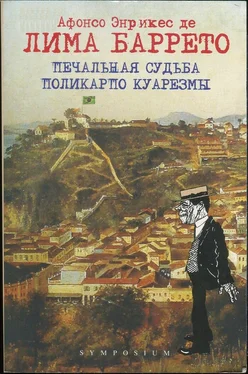
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)






