Лицо Юджина стало тёмным от гордости и радости — там, в этом прелестном диком уголке. Он не мог говорить. Мир был пронизан сиянием; жизнь нетерпеливо ждала его объятий.
Элиза и Гант внимательно слушали все песни и речи. Их сын был здесь великим человеком. Они видели и слышали, как он говорил перед своим курсом в парке и потом, при получении диплома, когда объявили о его призах и наградах. Его наставники и товарищи говорили с ними о нём и прочили ему «блестящую карьеру». Элизу и Ганта коснулось обманчивое золотое сияние юности. На миг они поверили, что всё возможно.
— Ну, сын, — сказал Гант, — остальное зависит от тебя. Я верю, что ты прославишь своё имя. — Он неуклюже положил большую сухую ладонь на плечо своего сына, и на мгновение Юджин увидел в мёртвых глазах тёмность старой умбры и ненайденного желания.
— Гм! — начала Элиза с дрожащей шутливой улыбкой. — Как бы у тебя голова не закружилась от всех этих похвал. — Она взяла его руку в свои шершавые тёплые ладони. Её глаза вдруг увлажнились.
— Ну, сын, — сказала она торжественно, — я хочу, чтобы ты продолжал и постарался стать кем-то. Ни у кого из остальных не было таких возможностей, и я надеюсь, ты сумеешь ими воспользоваться. Твой папа и я сделали всё, что могли. Остальное зависит от тебя.
На миг исполнясь отчаянной преданности, он взял её руку и поцеловал.
— Я воспользуюсь, — сказал он. — Обязательно.
Они робко глядели на его чужое тёмное лицо, пронизанное страстным и наивным пылом, и испытывали нежность и любовь к его юности и неведению. А в нём поднялись великая любовь и жалость к их странному неловкому одиночеству — какая-то страшная интуиция подсказывала ему, что он уже равнодушен к почестям и отличиям, которых они желали ему, а те, которых он желал себе, лежали за пределами их шкалы ценностей. И перед этим видением жалости, утрат и одиночества он отвернулся, вцепляясь худой рукой себе в горло.
Всё кончилось. Гант, который под воздействием радостного возбуждения во время церемонии почти обрёл былую бодрость, снова впал в хнычущий маразм. Страшная жара обрушилась на него и сокрушила. Он с усталым ужасом думал о длинном жарком пути назад в горы.
— Боже милосердный! — хныкал он. — И зачем я только поехал! О Иисусе, как я ещё раз выдержу этот путь! Я не вынесу! Я умру раньше, чем доеду! Это страшно, это ужасно, это жестоко. — И он начинал жалобно всхлипывать.
Юджин проводил их до Эксетера и удобно устроил в пульмановском вагоне. Сам он оставался ещё на несколько дней, чтобы собрать накопившееся за четыре года имущество, — письма, книги, старые рукописи, всевозможный, никому не нужный хлам, так как он, по-видимому, унаследовал манию Элизы к слепому накоплению. Деньги он швырял и не умел их беречь, но зато сберегал всё остальное, даже когда его дух изнемогал от душной и пыльной томительности прошлого.
— Ну, сын, — сказала Элиза в спокойную минуту перед отходом поезда. — ты уже решил, что собираешься делать дальше?
— Да, — сказал Гант, облизывая большой палец. — Ведь с этих пор тебе придётся самому о себе заботиться. Ты получил самое лучшее образование, какое можно получить за деньги. Остальное зависит от тебя.
— Мы поговорим об этом через несколько дней, когда я приеду домой, — сказал Юджин. — Я всё вам тогда скажу.
К счастью, поезд тронулся, и, быстро поцеловав их обоих, он побежал к выходу.
Ему нечего было им сказать. Ему было девятнадцать лет, он кончил университет, но он не знал, что будет делать дальше. План отца, желавшего, чтобы он изучал право и «занялся политикой», был забыт ещё со второго курса, когда он понял, что право его не интересует. Семья смутно чувствовала, что он не укладывается в рамки, — «свихнутый», как они выражались, — что склонности у него непрактичные, или «литературные».
Не задаваясь чётким вопросом — почему, они чувствовали всю нелепость попытки облечь эту мчащуюся прыжками фигуру с тёмным диким лицом в сюртук и узкий галстук; он существовал вне деловых предприятий, торговли и права. Ещё более смутно они относили его к книжникам и мечтателям. Элиза говорила, что он — «учёный», а он им не был. Он просто был блестящ во всём, что питало его жажду. И туп, небрежен и равнодушен во всём, что её не касалось. Никто не представлял себе ясно, чем он будет заниматься дальше, — и он сам меньше всех, — но семья, вслед за его товарищами, неопределённо и убедительно говорила о «журналистской карьере». Это означало работу в газете. И каким бы малоудовлетворительным это ни было, их неизбежный вопрос на время утонул в дурманном блеске его университетских успехов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)

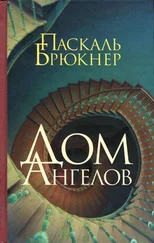
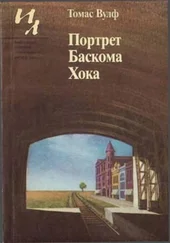
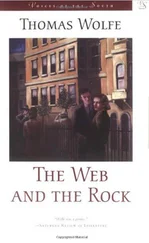

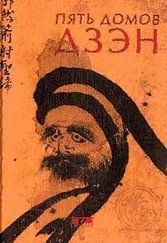
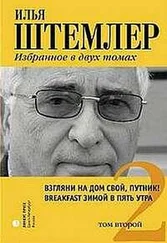
![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)