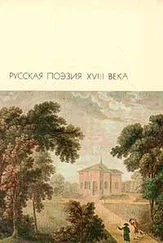Они были возле дома Фукса. Мерзлая земля звенела под ногами. Пошел мелкий снег.
— Часто я в Остраве думала: неужели все, что мы сейчас затеваем, напрасно? Ведь надежды так мало, в сущности — никакой. И не лучше ли было просто написать им о нашем браке?.. Но нет, так лучше. Надо расстаться. Полагаются похороны. Только б они не были слишком шумные.
Они шли мимо ворот Каца. Смеркалось. И если Ганеле думала, представляя себе этот момент, что у нее будет колотиться сердце, — она ошиблась. Она даже не обратила внимания, где они.
Вот они подошли к дому Шафара. Большому, обветшалому, вырисовывающемуся в вечерних сумерках среди снегопада. Дедушкин дом!
Она не сказала ему об этом, даже когда они оказались перед самым домом. Только остановилась и судорожно сжала его руку.
— Любимый мой, не оставляй меня!
Не по ее спокойному голосу, а по нежному слову, с которым она впервые обратилась к нему, он понял всю ее тоску. А она уже взбежала на галерею по трем старым мельничным жерновам, служившим ступеньками, и решительно открыла дверь на кухню.
Иво Караджич вошел вслед за нею. Шагнул в темноту и не увидал ничего, кроме отблесков огня на печной дверце. Но Ганеле подошла к какой-то неясной тени.
— Это я, мамочка! — и слилась с ней, видимо, в объятии.
— Отец, отец! — радостно закричала мать.
— Это господин Караджич, — представила Ганеле.
Откуда-то появился отец. По тому, как он поднял руку, было видно, что он растерян. Мамочка старалась засветить керосиновую лампу зажженной от печки лучиной. Но у нее дрожали руки, и это никак не выходило. В конце концов лампу зажгла Ганеле, и желтый огонек в сумерках угасающего дня напомнил ей то раннее утро, когда она три месяца тому назад уезжала отсюда. Как только загорелся свет, отец и мать повернулись к гостю.
Материнские глаза сияли, губы приветливо улыбались.
Но отцовские так и впились в глаза жениху дочери. Однако и отцовское лицо стало понемногу проясняться: все больше и больше. Вот губы и глаза улыбнулись. Ого, огромный нос, какого в Подкарпатской Руси никто еще не видел! И красивые миндалевидные глаза под черными, как уголь, бровями! И красивая форма рта! И эти щеки, только полдня небритые, а уже черные, как у нахамкесова ученика! С сердца у Иосифа Шафара будто камень свалился, — нет, целые оползни, каменные глыбы, и оно лежало освобожденное, раскрытое, теплое, трепещущее. И Иосиф Шафар протянул это сердце на ладонях Иво Караджичу.
— Милости просим!
С сияющей улыбкой он обеими руками пожал руку гостю.
— Милости просим! Милости просим, господин Караджич. — И страшное имя, причинившее ему столько тревог, вдруг зазвучало знакомо и приятно. «Дурак этот Пинхес! Дурак! И умная у меня жена!»
Он радостно обернулся к ней. И они, понимая друг друга, обменялись улыбкой.
Он опять подошел к Ганеле, словно еще не поздоровался с ней.
— Здравствуй, Ганеле, здравствуй, дочка!
— А у меня на ужин ничего нет! — вдруг с отчаянием воскликнула мама.
Иво Караджич попросил Ганеле, до того как совсем стемнеет, показать ему дом, о котором он столько от нее слышал. И Ганеле, предчувствуя, что ни она, ни он никогда больше не смогут радоваться жилищу, где прошла ее юность, показала ему пустую корчму и лавку (несмотря на возражения отца), полупустые комнаты с шаткими половицами, покрытый птичьими следами, заснеженный двор, навесы и хозяйственные постройки. Нет, в сад она его не повела: с садом были связаны слишком неприятные воспоминания.
Получилось настоящее прощание: когда предметы чудесно оживают, и мы любим их, и нам хочется приласкать их рукой или хоть взглядом. Отец, объяснявший себе этот подробный осмотр по-своему, ходил с ними, слегка взволнованный, улыбаясь, стараясь быть как можно приветливей, и все время испытывал потребность трогать зятя за рукав. Не зная, чем бы похвастать, он рассказывал о дедушкиной славе. Мать поминутно вызывала Ганеле на кухню, и той приходилось быстро, хоть и не особенно охотно, отвечать на ее взволнованные вопросы. Богат ли он? Не захочет ли приданого? С положением ли? Из хорошей ли семьи? Живы ли еще его родители? «Ах, это совсем неважно, мамочка», — думала она.
Потом они опять вернулись во двор, занесенный сыпучим снегом. Здесь ей удалось, пользуясь сумерками, пожать возлюбленному руку, а в хлеву, почесывая Бриндушу между рогами и ласково прижавшись головой к ее шее, произнести безразлично, будто что-то ему объясняя: «Я вас обожаю, мой милый». А запирая ворота сарая, повторить: «Понимаешь, милый? Обожаю!»
Читать дальше