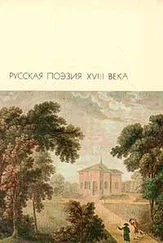Ганеле написала родителям. Нет, не все: на это у нее не хватило духу. Написала только, что в конце месяца или в начале следующего приедет в Поляну. Ответа все не было; может, просто не успел прийти: ведь до Поляны далеко, и там не скоро отвечают.
Господин Пшеничка выдал Иво Караджичу три удостоверения о командировке: от «Общества сторонников кремации», от секретариата «Вольной мысли» и от издательства «Вольный мыслитель».
И вот в один прекрасный день перед квартирой Ганеле загудел маленький желтый автомобильчик, принадлежащий оптовому складу эмалированной посуды фирмы «Дуб и Арнштейн», — только на двоих, с большим отделением для образчиков позади. Ганеле положила в это отделение свои вещи, села на место пассажира, и машина покатила по улицам, прогудев на прощание старой даме, которая кивала им с крыльца; из машины высунулись рука и платочек, помахали ей в ответ — и желтый коробок полетел по Остраве.
Морозило, и утренняя Поляна лежала под снегом. Деревня была пуста; иногда из какой-нибудь хаты выбегал оборванный русинский или еврейский ребенок, торопясь по снегу к кому-нибудь из соседей — попросить угольков на лопату; летел стрелой, чтоб только поскорей очутиться опять в тепле.
Над двором и садом Шафаров летали вороны.
У окна, размером меньше пяди, выходящего во дворик с ясенем, молился, повернувшись лицом на восток, Пинхес Якубович, завернутый в черный с белым полосатый талес, с костяным тефилином {284} 284 Тефилин — см. примеч. 171.
на лбу и ремешками, обмотанными семь раз вокруг его обнаженной левой руки, по которой кровь текла прямо из сердца. Брана ушла в деревню занять, выпросить, выплакать, вымолить или вырвать угрозами немного сена для коровы — свое уже кончилось. А дети то и дело скрипели дверью, напуская со двора холод.
Пинхес Якубович творил утреннюю молитву: «Да славится и возвеличится бог живой. Он сущий, и неограничен срок его бытия. Един, и нет единства более его единства. Ни телесного образа не имеющий, ни тела, и ни с чем не сравнится святость его».
Дойдя до слов: «Вот владыка вселенной всем созданиям являет величие свое и власть свою; богатством пророчества своего одарил мужей избранных и славы своей!» — Пинхес Якубович расплакался. Но крупные слезы, стекавшие по его ввалившимся щекам и падавшие на талес, были слезами радости. Сегодня самый светлый день его жизни, господь бог нарек его ученым: ламед вов.
Сегодня, в ночь на вторник, Пинхес Якубович, одетый в саван творил страшную каббалистическую молитву «Хурбан баит». Когда он вернулся из морозных сеней в теплую постель со вспотевшим лбом и окоченевшими ногами, ему, только он уснул, пригрезился ангел сна.
— Встань, ламед вов Пинхес!
Пинхес Якубович в страшном испуге вскочил и встал перед ангелом. Ему было очень стыдно, потому что на нем были рваные подштанники.
— Я послан господом богом, — сказал ангел.
Как попал сюда этот ангел, через двери или иным путем, Пинхес не знал. Это был огромный юноша в белом одеянии и золотых сандалиях, — когда он сел на стул, стоявший у стола, то коснулся теменем потолочной балки. Длинные ноги он вытянул было по направлению к Браниному дивану, из которого торчало сено; но, видно, не захотел прикасаться к их ложу, в то время нечистому; а так как ноги у него озябли, он передвинул их в печке и сидел немного наискосок от Пинхеса.
Ангел заговорил. Сперва с достоинством, хотя ангел, сидящий на стуле, греющий себе ноги и бросающий слова чуть ли не через плечо, производит не очень внушительное впечатление. Но какой несолидный, легкомысленный тон позволил он себе в дальнейшем! Он говорил явно от себя, ни в коем случае не по внушению бога. Пинхес обдумывал это событие весь остаток ночи. И будет размышлять о нем еще долго, — бог даст лет сто.
— Господь бог говорит с тобой устами моими, — так начал ангел. — Ламед вов Пинхес, сын Янкеля! Дошла молитва твоя до слуха моего, и внял я ей. Думал я сокрушить полянскую еврейскую общину за грехи ее жезлом железным, как сосуд скудельный, разметать ее, как песок пустыни. Но смягчились гнев мой и ярость моя молитвами твоими, и смиловался я. Вот нет уже ни халуцев, ни мизрахистов. Стер я их с лица земли, как скверну, и отныне Поляна вновь будет единой, как искони. Но взамен я требую искупительной жертвы. Одной от всей общины. Одной, но самой страшной из всех, какие когда-либо приносились. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть, какой Поляна еще не видела, грозней меча, огня и могилы. Из всех смертей смерть. Завтра же. Принеси мне ее без промедленья! Это первое, ламед вов Пинхес, сын Янкеля. И второе: другим людям я могу не внимать, а тебе не могу. Оставь меня в покое с мессией, не надоедай! С какой стати должен я два раза в неделю выслушивать твои напоминания, брань и угрозы? Мне лучше знать, какие у меня намерения насчет моих евреев и когда послать мессию. У тебя не должны зябнуть ноги, и у ангела тоже… И в-третьих: ты очень ошибаешься, думая, что я превращу Брану в рыбу. Она будет причастна славе небесной наравне с тобой. Сразу видно, что ты еще плохо понимаешь меня. Зачем создал я Брану? Для того, чтоб она в поте лица своего добывала хлеб твой. Но все в меру. Займись немного шитьем. Соломон Фукс продырявил себе брюки на заднице, попроси у него работы. И почему ты топчешься перед вестником моим в таком рваном белье? Стыдись, портной!
Читать дальше