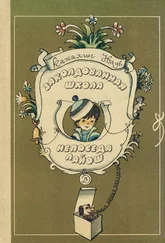В очерках и статьях он с исключительным мужеством выступает против ужасов фашизма. В нашей литературе того времени, создаваемой непосредственно на венгерской земле [1] Это уточнение связано с тем, что многие прогрессивные венгерские писатели жили и работали вдали от родины, в эмиграции. (Ред.) .
, нет другой новеллы, которая представляла бы такими ненавистными хортистских карателей, как новелла «Волк и овечка», написанная в 1922 году. Элементы действительности и отголоски сказки сплетаются в ней и в необычной этой, слитной вибрации воспроизводят эпоху, которую Л. Надь назвал позднее «адским проклятием, бедствием пострашней войны, циклона, чумы».
В те годы писатель воспринимал действительность с плебейской, радикально-демократической точки зрения, однако из-за относительной отстраненности от революционного рабочего движения его мировоззрение в целом лишь позднее воспринимает тот организующий принцип, на фундаменте которого высоко взмывает и его искусство. Эмоциональная, инстинктивная тяга к рабочему классу, рабочему движению наполняет его произведения глубоким содержанием.
Связь с подпольной коммунистической партией он устанавливает в 1925 году. Знакомится с писателями-коммунистами Шандором Гергеем, Ференцем Агарди, позднее — с Аладаром Тамашем, Ласло Геребьешем, очень рано вступает в тесную дружбу с Аттилой Йожефом. «Лайошу Надю дружески… примите ее либо отвергните, она — моя, а я, тем самым, — ее», — надписывает ему Аттила Йожеф книгу своих стихов в августе 1926 года. В кафе «Фесек» Л. Надь регулярно посещает встречи литераторов, группировавшихся вокруг журнала коммунистов «100%», его произведения появляются на страницах «100%», «Форраш» («Источник»), а в начале тридцатых годов — и в легальном, но находившемся под влиянием коммунистов «Таршадалми Семле» («Общественное обозрение»). Печатается он также и в «Нюгате», в течение долгого периода сотрудничает в буржуазно-радикальном журнале «Сазадунк» («Наш век»), в 1927—1928 годах редактирует прогрессивный по духу журнал «Эдютт» («Вместе»). Его мировоззрение в эти годы все более проясняется (хотя от фрейдизма полностью не освобождается никогда); в творчестве все более отчетливо выходит на передний план тема противостояния богатых и пролетариев, самое же главное: за суровым до жестокости изображением действительности вызревает воля к изменению политического строя. Параллельно расцветает и углубляется его деятельность критика и публициста, неизменно, до последних дней сопровождавшая его художественное творчество.
Лайоша Надя всегда волновала проблема свободы писательского творчества — чуть ли не каждые три-четыре года появляются статьи и целые исследования, посвященные этому вопросу. Особое место занимают в его публицистике обзоры печати, прежде всего те, что писал он с 1929 по 1933 год в «Сазадунк». В этих обзорах Л. Надь разоблачает лживость и тлетворность прессы христианско-националистического курса, коррупцию в общественной жизни страны, проявления фашизма; он подымается здесь до высокой сатиры.
Годы после первой мировой войны прошли в европейской литературе под знаком изменявшегося видения действительности и бурной смены стилистических направлений. В ткани новелл, рассказов Лайоша Надя и даже публицистических его произведений нетрудно обнаружить самые различные вехи мировоззренческого и стилистического характера, которые свидетельствуют о его тесной связи с современным ему мировым литературным процессом. Напряженное взаимодействие жанрового обновления и идейных запросов в самом деле приводит писателя к высокому творческому взлету.
Уже в «Студентах на гимнастике», одной из ранних новелл Надя, обращает на себя внимание внезапный — сходный с выбросом лавы — взрыв сдерживаемого гнева, шквал страсти, прорывающий вдруг бесстрастие повествования; но в «Иеремиаде» (1927) страсть прорывается уже не на периферии повествования, она захватывает все произведение целиком. Стилистически этот рассказ приближается к свободному потоку верлибра, как и новелла «Урок», которая в течение нескольких лет читалась как стихотворение на культурно-просветительских вечерах, являвшихся важной составной частью венгерского рабочего движения в двадцатые — тридцатые годы.
Обновление традиционных прозаических форм представляется Лайошу Надю насущной проблемой дня. В 1927 году он пишет в журнале «Эдютт»: «…старомодному повествовательному, то есть сюжетному, роману, с характеристиками главных героев, эпизодами, экспозицией, эпилогом и «фоном», со всем множеством иных дешевых трюков, по моему мнению, скоро придет безусловный конец, и появятся новые, с более широкой перспективой произведения, ломающие формы, свободнее и щедрее оперирующие ассоциациями».
Читать дальше