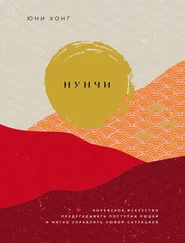И всякий раз, когда солдаты приближались к моему дому, стоявшему наискосок от ворот тюрьмы, раздавался звук рожка — ужасно веселый и торжественный. Заглушая бряцание штыков, шлепавших по бедрам, и мерный шум шагов, рожок с каждой секундой звучал все выше и громче, сотрясая воздух до самого неба. А потом, сливаясь с пением ветра, шелестевшего в кронах деревьев, звучный призывный голос рожка уносился еще выше и плыл далеко-далеко над землей в прекрасные неведомые края.
Некоторое время спустя уже другие солдаты, сменившиеся с караула, выходили из тюремных ворот, но с ними шагал все тот же трубач.
Теперь переливы рожка звучали быстрее, чем прежде, следуя торопливому шагу усталых и голодных людей, мечтавших об отдыхе, сытном обеде и выпивке… Раз-два… раз-два… Ноги — словно листья, уносимые ветром. Рожок трубит звонко и радостно, и широко распахнувшиеся небеса эхом вторят ему. Следом за солдатами бегут дети и женщины; малыши, сидящие на спинах у матерей, подпрыгивают, как всадники в седлах.
За нашим домом голос рожка начинает звучать все выше и выше. Когда же солдаты, женщины и детвора скрываются за деревьями, рожок умолкает. Вечерний ветер ни с того ни с сего протяжно вздыхает, и тучи, заслышав этот протяжный вздох, вздрагивают, словно очнувшись от дремоты.
Мама, стоявшая рядом со мной, вдруг отпускала мою руку и сбегала по кирпичным ступенькам крыльца на улицу. Ничего не понимая, я бежал следом за нею, крепко ухватясь за полу ее платья.
— Мама! Подожди меня! — кричал я. — Мама!..
* * *
Сколько их было, таких вечеров? Наверное, сотни две или три, не меньше. Не могу сказать точно; помню лишь, как по вечерам мама выводила меня из дому навстречу проходившим солдатам и веселой песне рожка, а потом медленно уводила обратно. Мама выходила на улицу и в теплые солнечные вечера, и когда дул резкий холодный ветер, а в дождь она стояла под навесом террасы. Сколько их было — таких вечеров? Разве в силах память ребенка удержать все это? Да и кто их мог сосчитать? Но в душе моей навсегда сохранится мамино лицо до последней маленькой черточки: взгляд ее, загоравшийся при появлении человека с рожком, и румянец, вспыхивавший на ее щеках каждый раз, когда на ней останавливались блестящие глаза трубача. И до конца дней своих не забуду я странного ощущения, овладевавшего мною, когда маленькая рука вдруг, дрожа, сползала с моей головы на плечо и подернутый туманной пеленой отсутствующий взгляд встречался с моими глазами, вызывая у меня холодную дрожь… Не забуду, как умоляюще звучал мамин голос, когда я, видя, что солдаты прошли и рожок замолчал, хватал ее за полу и тащил домой:
— Полно, ты так разорвешь мне платье!.. Перестань!.. Иди лучше вперед, а я за тобой следом…
Но однажды вечером — не помню, был он солнечный или дождливый, — мама не повела меня на улицу. И с тех пор я один выбегал вечерами навстречу солдатам, впереди которых шагал теперь другой трубач. Часто, когда, по-моему, рожок звучал особенно весело, я мчался в комнату, хватал маму за руку, стараясь поднять ее и потащить к дверям. Но она оставалась сидеть на циновке и, оттолкнув мою руку, поворачивалась лицом к стене или вдруг, притянув меня к себе, крепко обнимала. И тогда я слышал стук ее сердца, он отдавался во всем теле теплой приятной истомой, надолго удерживавшей меня рядом с мамой…
* * *
Куэ — на самом деле папина дочка. Двоюродный брат, тетки, бабушка и соседи — все принялись убеждать меня в этом, когда трубач уехал в другое место, не знаю, куда именно; и мама стала оказывать еще большее почтение бабушке и еще старательней угождать отцу и заботиться о детях. Но с того времени я почти не видел, чтобы родители мои улыбались или разговаривали между собою сердечно и весело, разве что в присутствии бабушки или других родственников.
И потом, когда сестренка моя подросла, тоже ничего не изменилось. Отец и мама разговаривали иногда, но избегали смотреть друг другу в глаза. В их голосах, взглядах, в улыбке чувствовалась жгучая горечь и досада. Эта скрытая боль была, наверное, следствием тех немногих ночей — я уверен, очень немногих, — которые они, против воли, провели вместе, чтобы, как положено, породить двоих детей на радость богатой семье, не имевшей наследников, а потом тщетно старались стать близкими друг другу среди окружавшей их бесконечной лжи и обманчивой, показной нежности.
1941
Эти школы ютились в узких кривых переулках пригородов, среди навалившихся друг на друга убогих домишек, тонувших в душных, зловонных испарениях сточных канав и свалок, где копошились в грязи животные и люди. В этих школах дети лет до десяти, по десятку-полтора ребятишек в каждой, занимались под присмотром бродячих учителей — измученных, ожесточившихся стариков или молодых, семнадцати-восемнадцатилетних, уже познавших горечь разочарования и нищеты. Школы, точно преступники, скрывающиеся от погони, прятались под крышами жалких хижин в дальних закоулках дворов, на чердаках и в пристройках.
Читать дальше








![Юни Хонг - Нунчи [Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией] [litres]](/books/403394/yuni-hong-nunchi-korejskoe-iskusstvo-predugadyvat-thumb.webp)