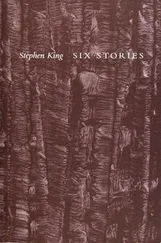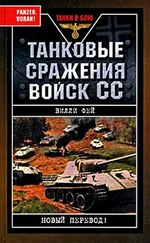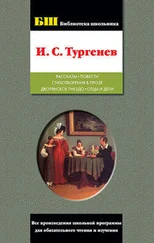Диета и пилюли — этим исчерпывалась вся премудрость врача, у которого не сходило с языка слово «смерть». Хардекопф всегда вздыхал с облегчением, когда доктор напяливал на голову свою черную помятую шляпу и закрывал за собой дверь.
Нельзя сказать, чтобы Хардекопф боялся смерти. Вовсе нет! Его лишь раздражала назойливая болтовня доктора, который открыто высказывал недовольство излишней проволочкой. Он, Хардекопф, никогда не боялся смерти, — что ж ему бояться ее теперь, на старости лет! Всякий раз, когда Густав Штюрк, бывало, заговаривал с ним о смерти, он переводил разговор на более веселую тему. Жизнь и смерть были для него единством. Одно не существует без другого. В этом становлении и угасании, угасании и становлении, в том, что человек продолжает жить в потомках, Хардекопф всегда видел великую тайну жизни. Но каковы потомки? Мог ли он быть доволен ими? Стоило ему подумать о детях, и его охватывал страх — страх перед смертью. Пока в его жизни было содержание, смысл, смерть не страшила его; теперь же, когда жизнь его была опустошена, когда надежды рухнули, рухнул и его душевный покой вместе с твердой верой в лучшую жизнь для тех, кто придет после тебя. И поэтому смерть являлась ему теперь как обвинитель и палач.
Порой достаточно было какой-нибудь случайно возникшей игры слов (и как это только получалось!), и в ушах его начинало звучать: «Пораскинь-ка мозгами!» Сначала как тихое отдаленное бормотание, потом все громче и громче, пока голову не начинало ломить от страшного гула и грохота. И тогда сердце рвалось от страха. Ему представлялось, что тысячи и тысячи погибших наваливаются ему на грудь и, с трудом переводя дыхание, грозят: «Все ты-ы!.. Ты-ы! Ты-ы!..» Еще секунда, думалось ему, и он задохнется от укоров совести. Старый Иоганн закрывал глаза, он дрожал всем телом и громко стонал…
2
Золотое сентябрьское солнце щедро заливало комнату, проникая сквозь тюлевую занавеску, осыпало сидевшего в кресле Хардекопфа легкими солнечными бликами, оживавшими при малейшем дуновении ветра. Вчера у Хардекопфа был тяжелый день. На противоположной стороне тротуара, перед подъездом дома, против окна, у которого сидел Хардекопф, мальчишки построили из камешков и песка крепость, а перед ней из кустиков сорной травы — поля и леса. Отряды оловянных солдатиков штурмовали крепость. За лесочком расположились артиллерийские позиции. По полю гарцевала конница. Прохожие останавливались, улыбались, хвалили ребят, а кое-кто, вероятно, рассказывал случаи из своих военных лет. Но, разумеется, важнее всего для мальчиков было то, что ни один прохожий не забывал бросить пять, а то и десять пфеннигов в блестящую консервную банку, изображавшую «полевое казначейство».
И Хардекопф тоже видел мальчиков, видел кучку песка. Прохожие проходили мимо, останавливались, шли дальше. «Что там такое?» — думал Хардекопф. Наконец он крикнул Паулину.
— Обычная детская игра в войну, Иоганн, — сказала она равнодушно. — Сегодня ведь годовщина Седана.
Хардекопф тяжело откинулся на спинку кресла. Годовщина Седана… Шпихернские высоты… Госпиталь в Пирмазенсе. Было это в августе? В сентябре? Солнце сияло, как сегодня. И такое же синее было небо. Чудесные зеленые леса стояли кругом. Сверкали мундиры; словно серебро, блестели на солнце шлемы кирасиров. А люди кололи и стреляли. Кололи и стреляли… Хардекопф опустил веки. Стреляли и кололи… Он вскрикнул и открыл глаза. Вдруг из-за деревьев что-то кинулось на него…
— Опять, опять, — пробормотал Хардекопф в ужасе и с трудом перевел дыхание. — Опять? После стольких лет?
Хардекопф застонал, а ребята на улице все выкрикивали: «Пожертвуйте кто сколько может! Сегодня — годовщина Седана!»
Скованный страхом, Хардекопф сидел, не решаясь закрыть глаза. Но и с открытыми глазами он не мог прогнать мучительные воспоминания. Он, больной, седовласый старик, видел перед собою круглое цветущее лицо, загорелое, темноглазое, с шелковистыми усиками на верхней губе… В голове гудело: «Camarade allemand!», «Camarade allemand!» Обеими руками сжал он лоб.
Внизу, на улице, мальчики заорали: «Ура-а!» Какой-то щедрый прохожий кинул в кружку крупную монету. «Camarade allemand!» Он был литейщик… И не так уж молод. У него были жена и дети… «Camarade allemand!» Нет-нет-нет! «Ну что, Иоганн, отвел пленных на расстрел?» Литейщик. Может быть, именно его офицер пинком ноги столкнул в могилу… «Camarade allemand!», «Camarade allemand!» И Хардекопф стонал, задыхался, потом все-таки закрыл глаза, все время бормоча: «Нет-нет-нет-нет-нет!..»
Читать дальше