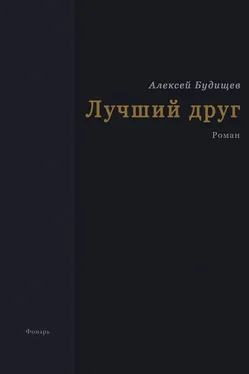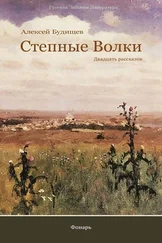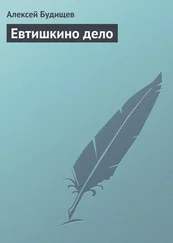Опалихин все сидел в своем кресле и точно старался вспомнить о чем-то, напрягая все силы. И вдруг он вспомнил рассказ Столбунцова о каком-то пении ночью. Он быстро подошел к Кондареву, снова взял его за локоть и заглянул в его лицо. И весь вид этого лица укрепил его в чем-то.
— Ты что, — спросил его Кондарев, — иль догадался, мальчик?
— Что с ней? — тронул его за локоть Опалихин. — Говори сейчас же, что с ней? С ней несчастие? Она сошла с ума? — добавил он, содрогаясь.
Кондарев, молча, закивал лицом, и из его глаз сразу хлынули слезы. Опалихин потупил голову и дрогнувшим шепотом спросил:
— Тебе тяжело очень? Да?
Он ушел от него, сел в кресло, пережидая, когда он, наконец, выплачется. А затем он подошел к нему и твердо произнес:
— Идем сейчас же к ней.
Его глаза глядели ясно и спокойно.
— Сейчас, — зашептал Кондарев, наскоро вытирая платком свое лицо, — сейчас мы пойдем к ней вместе! Сейчас!
Однако Кондарев не торопился уходить из беседки и, точно забыв об Опалихине, заходил из угла в угол. Опалихин беспокойно следил за ним.
— О чем ты думаешь? — спросил он его внезапно.
Кондарев все также в рассеянности ходил из угла в угол.
— Так, — односложно буркнул он наконец.
— У тебя все «так», — укоризненно покрутил головой Опалихин.
— Что же, — точно усмехнулся Кондарев, продолжая расхаживать.
Опалихин продолжал:
— Все-то у тебя «так» делается. «Так» ты меня вором сделал, «так» с ума ее свел!
— Не смей мне этого говорить! — крикнул из своего угла Кондарев и, приблизившись к Опалихину, заложил руки в карманы шаровар.
— Как это произошло по крайней мере? — спросил его Опалихин, не обращая ни малейшего внимания на его вспышку.
— Как произошло? — переспросил его Кондарев. — Она хотела, — продолжал он, — перекрестить детей. Я задержал ее руку. «Не кощунствуй!»
— Это жестоко! — вскинул на него глаза Опалихин.
— Да пойми ты меня, Сергей Николаич, — резко крикнул Кондарев, — что я душегуб, что ли? — Я не рассчитал удара, — продолжал он хрипло. — Я хотел сделать удар в борт и вернуть шар в лузу, а он выскочил за борт. Чем я тут виноват? — Он развел руками.
— А разве человеческая голова биллиардный шар? — спросил его Опалихин холодно.
Кондарев снова резко воскликнул:
— Ты ль мне это говоришь, Сергей Николаич!
И они сразу притихли, расхаживая по беседке и занятые каждый своей думой.
Так продолжалось несколько минут. Капли отшумевшего дождя монотонно падали с крыши, со звоном ударяя в лужу.
— Так вот-с, — вздохнул Кондарев. — Ты меня сейчас подлецом назвал, но это не верно, и я не ты. Ведь я все время против воли моей шел, — вдруг вскрикнул Кондарев, — когда дело мести моей совершал, — против воли! Потому что мои боги выше солнышка ясного, а твои — вровень с животом твоим! И ты, — повысил он голос, — и ты, когда подлости свои чинил, только животик свой щекотал. Да-с! Вот между нами разница какая! — сделал он резкий жест, — твои боги — палка поганая, мои — святыня чистейшая, и я тебе на святыню эту чистейшую указать хотел! Понял?
И он снова замолчал, напряженно размышляя о чем-то.
— Ну, что же, — вдруг проговорил Опалихин, — пойдем же, наконец к ней.
— Сейчас, — снова беспокойно заметался из угла в угол Кондарев, — сейчас, сейчас!
Они вышли из беседки и тотчас свернули в боковую аллею сада, ближним путем направляясь к усадьбе Кондарева, оба точно чем-то придавленные, с озабоченными выражением на лицах и молчаливые. Неподвижный и сырой мрак сада чернел перед ними стеной. Притихшие кусты дымились паром, и только одобрительное и глухое рокотание грома, приносившееся откуда-то издалека, будило напряженную тишину короткими ударами. Долго они молчаливо двигались во мраке, сначала среди холодных и влажных кустов, обдававших их спины брызгами, затем по вязкой дороге и сверкающим лужам, и, наконец, огни Кондаревской усадьбы резко ударили в их глаза, утомленные мраком. Очистив на крыльце ноги, они осторожно вошли в дом.
Горничная с заспанным лицом встретила их, с недоумением оглядела их мокрое платье и снова ушла спать.
Они остались одни; напряженная тишина стояла и в доме; весь дом спал, но спал, как казалось им обоим, больным и тяжелым сном. Он даже как будто бредил. Полуопущенные огни ламп почти в каждой комнате и необычайный порядок мебели громко свидетельствовали им об этом.
Они молча посидели в столовой, где на деревянном диване валялась забытая кем-то подушка, а на столе стояла белая склянка с длинным ярлычком рецепта. И им казалось, что каждая вещь этой комнаты внятно говорит, что здесь, в этих стенах, только что пронеслась тяжелая буря, утомившая всех и сокрушившая одно самое слабое деревцо.
Читать дальше