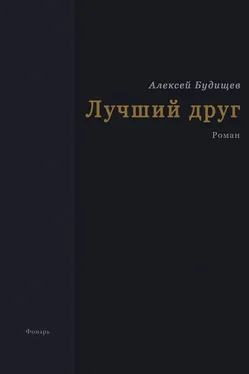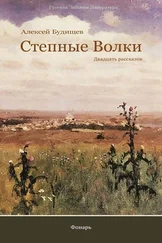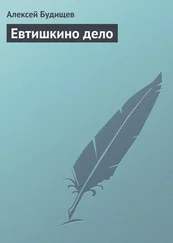Опалихин умолк с резким жестом. Шум дождя врывался в беседку.
— Ты сделаешь это? — поднял он на Кондарева глаза, и тот снова увидел в них сконфуженное выражение.
— А как же «падающего толкни»? — внезапно спросил его Кондарев и уставил на его лице равнодушный взор. — Куда же мы с тобой в таком случае эту заповедь спрячем? Ведь ты теперь тоже падающий? — Он устало усмехнулся. — Или мы этот уставчик, — продолжал он, — для других падающих про запас оставим, а тебя обойдем? Да?
Он снова лениво усмехнулся. Его лицо странно белело во мраке. Опалихин глядел на него во все глаза.
— Ты что это, шутишь? — спросил он, наконец, и даже побледнел. — Если так, то это очень странная шутка, — добавил он.
— Шучу, — односложно буркнул Кондарев и, отвернувшись от него, стал глядеть в окно.
— Так ты сделаешь это для меня? — настойчиво повторил свой вопрос Опалихин.
— Сделаю.
Кондарев махнул головою.
Опалихин вздохнул. В беседке стало тихо. Порывы ветра со свистом набрасывались на ее стены, колебали крышей и улетали дальше к гудевшим вершинам. Дождь шумел по-прежнему.
— А знаешь, что? — внезапно заговорил Опалихин, как будто несколько оживившись. — Мне кажется, что я начинаю кое-что соображать.
— Ну? — лениво повернулся к нему Кондарев.
— Мне кажется, — продолжал Опалихин, — я начинаю догадываться, кто мог подсунуть в бандероль моей книги эти сорок пять тысяч.
— Кто? — равнодушно усмехнулся Кондарев.
— А тот паренек, который мне прислуживает.
— Это тот самый, который летом о зиме поет, а зимой о лете? — снова усмехнулся Кондарев.
— В тот вечер, — не слушая его, продолжал Опалихин, — за мной приехал вот именно он, а не кучер. И у него мог быть заранее приготовлен ключ, подобранный к моему столу, так как о тождестве наших столов, а также и о том, что в твоем столе сохраняются сорок пять тысяч, мог слышать только этот паренек и никто больше. Не так ли?
Кондарев шевельнулся.
— А тогда для чего он засунул эти деньги вот именно в бандероль книги? — спросил он Опалихина в свою очередь. — В карман твоего пальто он еще мог их спрятать, тут еще есть кой-какие цели; но в бандероль книги это уж совсем дико. Книга-то в твои руки во всяком случае должна была раньше попасть, чем к нему. Нет, это ерунда! Это совершенная дичь, — шевельнулся он.
Опалихин молчал в задумчивости.
— Тогда кто же это мог сделать? — проговорил он, пожав плечом.
— Да я, — равнодушно отозвался у своего окна Кондарев.
— То есть, как это ты? — спросил его Опалихин, и по тону его голоса, спокойному и даже слегка насмешливому, Кондарев услышал, что он не придает его словам ровно никакого значения.
— Да мне-то уж было бы легче всего это сделать, — устало усмехнулся Кондарев. — Пошел, отпер своим собственным ключом свой же собственный стол, вынул оттуда денежки и сунул их в бандероль твоей книги. И только. Только всего и труда. Не так ли? — повернул он к нему свое лицо.
Опалихин равнодушно усмехнулся.
— Да во имя чего ты мог это сделать?
— А во имя чего я не должен был этого делать? — вопросом же ответил Кондарев.
— Что это, опять философия? — пожал плечом Опалихин.
— Нет, это не философия, Сергей Николаич, это не философия, а правда, самая настоящая правда! — крикнул от окна Кондарев.
Опалихин глядел на Кондарева, ничего не понимая, с недоумением на всем лице. Между тем, Кондарев встал со своего стула, почти в упор подошел к Опалихину и засунул руки в карманы шаровар.
— Не случалось ли тебе, Сергей Николаевич, — вдруг заговорил он внятно и с расстановкой, и вялость исчезла с его лица, — не случалось ли тебе когда-нибудь подписывать своих писем псевдонимом Евстигнея Федотова?
Он умолк, оглядел Опалихина внимательно и серьезно и подождал ответа. Опалихин молчал, широко раскрыв глаза, с выражением полного недоумения на всем лице.
— Случалось. Я это знаю! — как бы за него отвечал Кондарев после короткой паузы. — Я это наверное знаю! А как ты называл меня после этого псевдонимчика, — продолжал он свой допрос, — не припомнишь ли, а?
Он снова подождал ответа и опять-таки не дождался его.
— Лучшим другом! — отвечал он как будто за Опалихина.
— Ты меня звал лучшим другом. Это уж так-с! — Он тяжело вздохнул. — А не припомнишь ли ты, — повысил он голос, — какие ты мне заповеди диктовал? Не припомнишь ли? Нет? — допытывался он, и в его глазах загорелись огоньки. — Если нет, так слушай. Первая. В борьбе все пути открыты. Вторая. Стыдиться надо только глупости. Третья. Что нехорошо для всякого, то вкусно для Якова. И четвертая. Толкать падающего — напрасная трата энергии.
Читать дальше