Поселок, староста, суд, законы… Вы удивляетесь? Да, кроме школы и церкви, здесь есть почти все. Да и о школе уже подумывали. О школе подумывал инженер, который ежедневно слышит визг целой кучи детей перед своим домом, где как раз самое лучшее место для игр. Он думал: построишь здание, наймешь учителя, вычтешь у каждого рабочего по два крейцера из гульдена, как это уже делается на лекарства и врача, сделаешь, одним словом, доброе дело — да так и не сделал ничего: у него много забот, и дети по-прежнему визжат под его окнами. Не боятся даже инженеровой Белянки, большой ньюфаундлендской суки: они боялись ее только в первые дни, а теперь с криком возятся в пыли вместе с собакой.
О церкви, конечно, не думал уже никто. Говорят, на свете семьдесят две с половиной религии, семьдесят два с половиной языка и семьдесят два с половиной племени человеческого, причем половинка эта — цыгане, а босякам не осталось ничего. Правда, босяки рассказывают друг другу священное предание, будто где-то в Румынии построили для них церковь — из сала, — но мыши сожрали ее за одну ночь. Увы! Не составляют босяки единого племени, и, следовательно, нет у них и единого языка! Говорят они на каком-то дочернем наречии старозвучного санскрита, несколько приукрашивая и обогащая его новыми меткими выражениями, — но до сих пор не доросли босяки до создания собственного жаргона, которому можно бы дать какое-нибудь роскошное и лестное название, как, например, «praeve liguant» («красивый язык») шведских цыган или «chochemer loschen» («язык мудрецов») немецких евреев.
Тем не менее, как уже сказано, здесь все как в большом поселке. Торговля процветает, «дома» покупаются и продаются походя. Общественных партий здесь столько же, как и в других местах, работы хватает, развлечений достаточно — дело дошло чуть ли не до основания увеселительных клубов. Вон группа итальянцев, они орут и играют в «мору»; там можно послушать рассказчика — чудесные, странные истории, полчаса назад он и сам бы им не поверил! Несколько поодаль еще один круг, и в центре его кто-то поучает, как наверняка выиграть в шестьдесят шесть; он вынул грязные карты и демонстрирует. Что же касается любви…
Босяк знает три вида супружества. Собственно, первого вида он почти не знает — ему и в голову не придет «ради розового куста покупать целое имение»; связать себя навеки — как бы не так! Второй вид «дикий», но прочный и верный: ради детей и по привычке. Третий вид — еще более дикий, его можно расторгнуть в пять минут. Босяк, собственно, очень любит жениться — хоть каждый месяц, или, по крайней мере, на каждом новом месте; ему нужен человек, который бы немного присматривал за ним и немного бы еще подрабатывал. Он женится не для любви, но и не для того, чтоб отдохнуть от любви. Любовь его похожа на ветвистый полип: каждая ветвь — самостоятельное целое. К босякам неприменимо правило, что «кто женится в первый раз, тому простительно, кто второй — тем восхищаешься, как героем, но кто в третий раз женится, пусть получит в наказание сто жен!» У босяка есть его «третий вид» супружества, а стало быть, пусть будет хотя бы и сотня жен…
Помолвка босяка не затягивается. На первом месте у него старое правило: «Я себя в обиду не дам, лучше обижу сам!» Красоты он не ищет. Лицо жены вовсе не должно быть «как ясная полная луна», от глаз не требуется, чтоб они были «мечтательны, как лилии», а волосы «черными, как рой пчел», грудь и бока — «как лоб слона», «речь «благоуханна, как фиалка», — лишь бы женщина была, как в песне поется:
Красные щечки,
Белое тело,
Будто в духовке
Долго сидела.
Красивая жена доставила бы много беспокойства. Не требует босяк и высоких душевных качеств, — ведь, в общем-то, хороша любая женщина, и лишь на самых верхних полочках человеческого общества водятся, говорят, эти «тонкие штучки» — хоть в добром, хоть в дурном смысле.
В конце концов только по еде познается хорошая жена: подмешает она к своей стряпне желание, чтоб вышло мужу по вкусу, — значит, жена хорошая! Конечно, глотка у нее здоровая — ну, да попробуй, вдень канат в игольное ушко, останови поток! В крайнем случае берется палка, и… «он увидит следствие, она почувствует причину». Одним словом: «Хочешь ко мне?» — «Ну, что ж, только уж больно ты пьянчуга!» — и дело слажено, и не нужно даже, как это заведено у цыган, трижды обходить вокруг можжевелового куста.
А потом — маленькие, писклявые босячата… В могилу-то они в свое время попадут наверняка, а вот в колыбель — нет, туда они не попадают! И где будет эта могила? Разве колыбель и гроб обязательно должны быть в одном краю? Сегодня босячонок родился, а через месяц он, быть может, уже за сотню миль от места рождения; родина его — весь мир; небо, усеянное золотом звезд, — крыша его отчего дома. Растет он, и сердце его не привязывается ни к какому кусту, ни к холму, ни к лугу, ни к домашнему углу; только начнет оно оплетать что-нибудь детскими золотыми своими мечтами, только пустит сердечко где-нибудь корни, как уж они вырваны насильственно и плещут по ветру! Но все же есть у босячонка огромное богатство — мать. Часто она, правда, задает ему трепку, говорит с ним грубыми словами, но все же дитя — это все, что у нее есть! Она уже не принадлежит себе — она принадлежит ребенку. Она заботится о нем, работает для него, ухаживает за ним, бодрствует над ним ночами, а если ложится — то для того лишь, чтоб набраться новых сил ради своего ребенка. С места на место скитается она с ним, мерзнет, сносит обиды — лишь бы сохранить ребенка. Босячонок подрастает и разлучается с ней. Мать еще иногда встречает свое дитя, потом иногда доходят до нее слухи, а там уж и вестей о нем никаких нет. И влачится она одна по жизни, потом где-нибудь находят ее — нищенку, замерзшую на куче камней.
Читать дальше
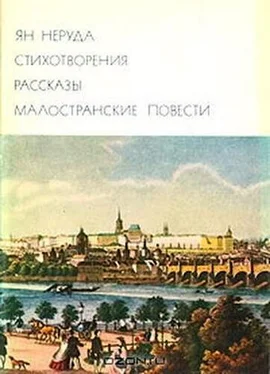


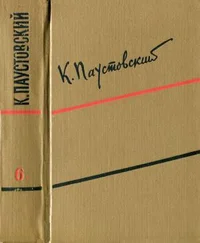






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

