Слава богу, никто не пришел. Огонь перестал угрожать соседним крышам, и через некоторое время народ разошелся.
Я сердито пускал дым в потолок и, злой, улегся опять на пол.
Утром, однако, я встал бодрым и сразу отправился на улицу — чтобы разузнать, что же делать дальше. Я спрашивал у полицейского. Спрашивал у дворника. Спрашивал у всех знакомых дам.
Полицейский взял под козырек.
— Не могу знать.
Дворник приподнял фуражку.
— Простите, не знаю.
Все дамы заявили в один голос:
— Да, в таких случаях просто ничего не придумаешь.
— Ну, Анча, — сказал я, вернувшись домой, — морока нам с этой соломой! Но ведь не можем мы оставлять ее у себя! Вы умеете делать фунтики из бумаги? Нет? Идите сюда, я вам покажу.
И мы стали делать фунтики и набивать их соломой. А когда их накопилось довольно много, я набил ими карманы, снова вышел на прогулку и стал их рассовывать, куда только мог. В этот день я гулял еще шесть раз. На следующий день — двенадцать.
Так я «работал» четыре дня подряд, пока мы с Анчей не поняли, что выбросили лишь небольшой пук соломы. Я подсчитал, что мне придется гулять подобным образом месяцев семь.
Думаю, нет нужды сообщать вам, что я просто-напросто заболел. Я не мог думать ни о чем другом. Перед глазами у меня была сплошная соломенная пелена, голова была забита проклятой соломой. В одном углу комнаты стояло три снопа, в другом — мой несчастный сенник и там же длинная подушка с дивана, — куда, куда обратить взор? А ночью приходилось ложиться на пол… Я так ругался, извергал столько проклятий, что стыдно вспомнить. Почти не спал, вставал чуть свет и отправлялся на прогулки.
И вот как-то раз я обратил внимание на все эти кувшины, бидоны и противни, которые внимательный читатель, конечно, заметил в самом начале моего повествования.
А с этими кувшинами, бидонами и противнями дело обстоит так: каждый пражанин имеет право завести себе какой-нибудь кувшин или, скажем, бидон, а также противень — это не запрещается законом и не преследуется властями. Но может случиться, что кувшин разобьется, — вот тогда-то и начинается потеха! Куда его девать! Выбросить во двор — дворник заставит убрать. Выбросить на улицу — тебя арестует полицейский. Сунешь на воз городскому мусорщику — он его непременно сбросит. Он не возьмет его ни за какие деньги, ему это строго запрещено! Вот какие дела… Тогда ты хватаешь свой кувшин, крадешься ночью на улицу и, никем не замеченный, тихонько ставишь его куда угодно. А на следующий день мусорщик спокойно подберет твой кувшин, причем без всяких денег, и все в порядке.
Меня осенила позорная мысль! А что, если мы с Анчей соберем всю эту старую солому и ночью вывалим ее вон на том углу? Мысль ужасная, неблагородная, незаконная, но признаюсь: мне она понравилась. Как легко человеку испортиться!
Но меня преследует невезенье. Бог знает почему. Как раз здесь поставили пост. Полицейский, конечно, потребует, чтобы я убрал солому. Я буду сопротивляться, совершу преступление, словом, меня заберут — и прощай моя репутация безупречного гражданина, впрочем, мне уже все равно… я…
— Сударь! Сударь! — воскликнула, вбегая в комнату, Анча. — Наконец-то я знаю, куда ее девать, эту солому. Говорят, ее охотно берет молочница. Она каждое утро останавливается вон там со своей тележкой. Ей нужна подстилка для скота! Завтра же отдадим ей солому!
— А это наверняка?
— Наверняка!
Что мне еще добавить! Ночью я спал хорошо. А утром мы с Анчей отнесли солому молочнице, — правда, Анча все-таки прежде заручилась ее согласием принять наш подарок.
Какое это было прекрасное мгновенье! Когда молочница отдавала нам пустой мешок, меня охватил восторг! Я поцеловал у нее руку, горячо обнял ее корову и с увлажненными глазами отправился домой.
Дома мы взяли свежую солому и стали набивать тюфяк. А когда он был уже полон, я обнял Анчу, засвистел песенку «На зеленом на лугу», и мы пустились в пляс вокруг тюфяка, да так, что у нас голова закружилась.
Вот и вся история. Вот как все произошло. Я рассказал все как было. История любопытная и злободневная. Я ею доволен и посему кончаю.
Заключительная молитва писателя.
Всемогущее небо! Горячо благодарю тебя за то, что ты милостиво охранило меня от всех возможных мыслей и притупило остроты мои, и я не возбудил недовольства сильных мира сего, не оскорбил душевной чистоты милых сограждан моих и не испортил завтрашнего воскресного номера газеты. Аминь!
Читать дальше
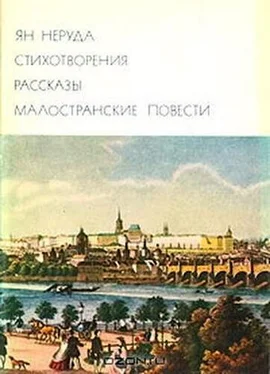


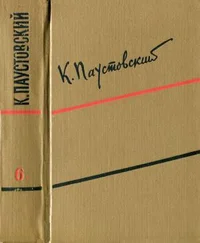






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

