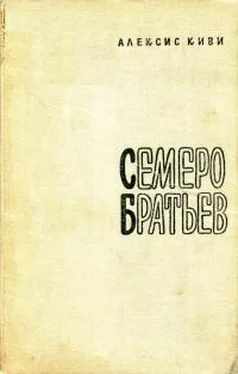Аапо занимался также врачеванием, чему выучился по старому домашнему лечебнику. И нередко помогали его снадобья, им же самим придуманные и приготовленные из целебных трав. Особенно славился он как искусный врачеватель рожи, поносов, обмороков, свинки и чесотки. Массажист он был бесподобный; не один человек, побывавший у него в руках, получал облегчение. Желудочные и некоторые иные боли он зачастую лечил исключительно массажами. И так как в беде не до стыда, то случалось раз-другой, что и бабам приходилось ложиться под врачующую руку Аапо, когда у них непрерывно жгло и сосало в груди.
Была одна баба, жена старика тряпичника Матти Тервакоски, которую неотступно мучили кошмары. Подчас они донимали ее каждую ночь, много недель подряд. Когда они оставляли ее в покое, баба уже радовалась избавлению, но вдруг все опять начиналось снова, и она снова не находила себе места. Она обошла и знахарок и лекарей, но все попусту. Наконец до ее слуха докатилась молва о великом искусстве Аапо Юколы, и она решила еще раз обратиться за помощью. С узелком и вязаньем в руке она проделала долгий и утомительный путь в Юколу. Но зато там она на веки вечные избавилась от своего недуга.
Аапо был еще и отличным заседателем. Приставив руку к уху, он внимательно и серьезно слушал дело, сидя на скамье присяжных в судебной избе. Изредка он гордо вскидывал голову, и на губах его играла тонкая, самодовольная усмешка. Его приговор всегда был мудр, справедлив и беспристрастен. Сам судья знал это и всегда терпеливо выслушивал его несколько длинные речи, когда он, размахивая рукой, излагал свое мнение по делу.
Так жил в своем мирном углу Аапо, славный хозяин и славный отец своих резвых ребятишек.
А Туомас, крепкий и плечистый, хозяйничал в недавно основанной Импивааре. Где найдется такой человек, который бы посмел кичиться перед хозяином Верхней Импиваары? Велика была его сила, и все его существо дышало уверенностью и спокойствием. В работе по хозяйству он не проявлял излишней спешки и суетливости, но все же держал всех в повиновении и страхе божьем — как дома, так и на полях. Он был самым щедрым из братьев и всегда выказывал доброту и ласку к страждущим и обездоленным. Он не расспрашивал и не выпытывал, что довело просящего до такой бедности; и если даже человеку по собственной вине пришлось взяться за нищенский посох, Туомас не попрекал его, он помогал всем без разбора, думая про себя: «Ведь ты же несчастен!» Больше всего он жалел маленьких бездомных девочек, которые с робким взглядом и трепещущим от страха сердцем ходили по миру. Двух таких нищенок он взял к себе в дом, где их растили и холили не хуже, чем собственных детей; а в них тоже не было недостатка, и все они были проворными мальчуганами.
Женат он был на единственной дочери Хяркямяки, женщине статной и степенной, которая вполне заслужила такого мужа, как хозяин Импиваары. Высокого роста, расторопная, но не суетливая была эта женщина. Гордо вздымалась ее грудь, из-под белого с красными клетками платка выбивалась толстая, льняного цвета коса и красиво падала на спину. Чело светилось спокойствием, в сердце, прямом и открытом, всегда жил страх божий. Она была хозяйкой Импиваары и отличной наставницей детей — как родных, так и приемных. Взгляд ее чистых, добрых глаз часто покоился на головках девочек, которые однажды, беззащитные и одинокие, оказались в ее доме.
Так, в спокойствии, текла жизнь Туомаса, приближаясь к тихой гавани. Часто сравнивают жизнь человеческую с бурным потоком. Но жизнь Туомаса, начиная с той поры, как он сделался хозяином в Импивааре, и до самого его смертного часа, мне хотелось бы сравнить с рекой, которая величаво несет свои воды к безграничному, вечному океану.
На расстоянии двух-трех выстрелов к востоку от дома Туомаса на песчаном склоне раскинулась усадьба Лаури; это была другая половина Импиваары, называвшаяся Лаурилой. Тут и жил молчаливый хозяин, возделывая землю; усердно трудился он на нивах, но еще охотней бывал в лесах и на болотах.
Жену он сосватал из Куоккалы. Там были дочери-близнецы, из которых одну взял Лаури, а другая досталась Тимо и стала хозяйкой торпа Кеккури. Жена Лаури была баба на славу, широкогрудая и коренастая. Далеко был слышен ее крикливый голос, похожий на звук кларнета, особенно когда она, полная гнева, отчитывала своего мужа и ее темно-карие глаза сверкали огнем.
Но сколько бы жена ни бушевала, Лаури сидел молча, постукивая топором. И это была для нее пытка: от такого гнев в ней разгорался еще пуще. Порой, однако, случалось, что терпение мужа иссякало, и тогда лучше было не попадаться ему на глаза. Женщина тотчас прикусывала язык, быстро выскакивала из избы и пряталась куда-нибудь в угол хлева, в укромные места и щели; время от времени она украдкой выглядывала из своего убежища, чтоб узнать, миновала ли уже буря, ею же вызванная. Наконец злость мужа проходила, и она возвращалась в избу. Но спокойного Лаури редко видели в такой ярости. Чаще всего, когда баба принималась шуметь и ворчать, он, с трубкой в зубах и топором под мышкой, отправлялся в лес за деревьями на разные поделки, за берестой для лаптей и наростами. Охотно задерживался он там, выискивая, разглядывая и размышляя. И лишь после заката, когда все погружалось в сон, он шагал к дому в сумерках летней ночи, неся на плече связку кореньев, кривых побегов и бересты.
Читать дальше