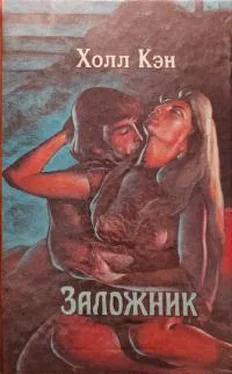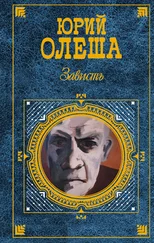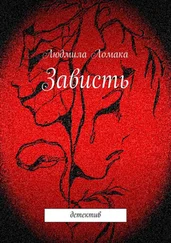- Мое дорогое дитя, я скажу тебе только одно, и я уверена, что ты меня поймешь. Во имя моей нежности и преданности тебе я прошу тебя принять г-на Давыда с почтением, которого он заслуживает. Вот и все, что мне от тебя нужно. Позже придут привязанность, доверие - я не сомневаюсь в этом и полагаюсь на твое доброе сердце и заботы г-на Давида. Но если сегодня ты не покажешь себя по отношению к нему таким, каким я хочу, я подумаю, что ты меня не любишь больше, Фредерик.
И мадам Бастьен бросилась на шею сыну, обливаясь слезами, так как эти ее последние слова выражали самое горестное сомнение, раздиравшее ее сердце.
Зависть и ненависть, озлобляя, изменяли характер Фредерика, но не убили в нем любви к матери.
Однако он испытывал стыд от своих низких чувств, принуждавший его быть натянутым, молчаливым, и сознание того, что он не достоин быть любимым, как прежде, и часто запечатлевать на лице матери изъявления сыновней нежности. Однако в этот раз вызванные тоном и страстным объятием матери слезы раскаяния нежности набежали ему на глаза. Но внезапная мысль, что она поставит между собой и им чужака, опасение быть разгаданным, бунт против какого-либо авторитета, кроме материнского, внезапно охладили его. Слезы Фредерика высохли, и он, ласково высвободившись из объятий матери, отвел глаза. Та, не зная причины этой холодности, предполагала равнодушие сына, которого она так любила. Но, желая обмануться в печальном открытии, она воскликнула, дрожащая и растерянная:
- Фредерик! Ты мне не отвечаешь, молчишь. Я понимаю, почему. Да, ты думаешь, что я преувеличиваю, не так ли, когда говорю тебе, что если ты оскорбишь своим приемом нового воспитателя, то, значит, ты меня больше не любишь. Ах, Фредерик, в самом деле, я теперь думаю ты действительно считал мои слова преувеличением. Но сейчас ты все поймешь. Ведь приезд нового наставника - это для меня избавление, да и для тебя тоже. Ты понимаешь? Это конец твоих трудностей, которые - ты хорошо знаешь - стали и моими. Это новая эра надежды и счастья, которая вновь начнется для нас. По этой причине я тебе и говорю: если ты хочешь пренебречь своим здоровьем, которое для меня является здоровьем нас обоих, если ты плохо встретишь г-на Давида, я подумаю, что ты меня больше не любишь. Ведь любить мать - значит никогда не огорчать и не тревожить ее. Ты же видишь, милый, я тебе говорю очень серьезные проблемы. Я ничего не преувеличиваю, не так ли? Но, Фредерик! Фредерик! Ты снова отводишь глаза. Ты что же, хочешь, чтобы я утвердилась в этом ужасном сомнении относительно твоей привязанности ко мне? Я не осмеливалась высказывать это прежде, я думала, ты просто злишься на меня. Я лишь предположила, что ты меня больше не любишь. Но ничего! Ни слова, которое бы меня утешило! Одно ледяное молчание! Ты, некогда такой нежный, так часто повисавший у меня на шее… Но, во имя неба, что ты имеешь против меня? Что я тебе сделала? Со времени этой перемены в тебе, которая меня убивает, я достаточно терпелива и покорна, достаточно несчастна!
При этом душераздирающем выражении материнского горя Фредерик почти готов был сдаться, но, ощутив еще более остро укус ревнивого чувства, неразлучного со всякой нежностью, он произнес с горечью:
- Ну, мама, теперь ты должна успокоиться, потому что призвала чужака к борьбе со мной…
- Боже мой! Так тебя раздражает тот, кого ты называешь чужаком. Но полно, будь же справедлив. Что я должна делать, когда я думаю, догадываюсь, когда я вижу тебя стоящим передо мной, безразличным или язвящим… И это после всего, что я для тебя сделала. Ах, ведь это правда, что за несколько месяцев я потеряла всякое влияние на тебя, все, даже авторитет слез и просьб. И ты хочешь, чтобы, видя свое бессилие, я не звала на помощь? Но, несчастный ребенок, разве ты не отличаешь больше добра от зла? Разве ничто хорошее, великодушное не трепещет больше в тебе? Значит, моя последняя надежда должна рассеяться? Итак, мне остается только созерцать страшную действительность… Но, в конце концов, поскольку ты меня вынуждаешь, - добавила Мари, бледная и смятенная, таким тихим голосом, что он был едва слышен, - напомнить тебе ту ужасную сцену, память о которой еще леденит меня ужасом. Вспомни вечер… в лесу. Ты хотел убить, подло убить! О, Бог мой! Мой сын, мой сын - убийца!
Это последнее слово, произнесенное с таким отчаянием, сопровождалось столь громким рыданием, что Фредерик побледнел и вздрогнул всем телом.
При этом обвинительном крике, вылетевшем из уст матери, при этом ужасном слове впервые в сознании Фредерика мелькнула мысль о значимости преступления, которое он хотел совершить.
Читать дальше