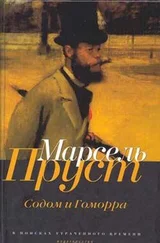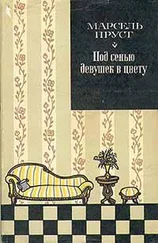Этим утром мы то встречались и останавливались, чтобы переброситься словцом-другим, то прохаживались, как другие парочки на молу, то потом снова разбредались в разные стороны. Остановки я использовал, чтобы присмотреться и окончательно определить, где у нее родинка. Вышло, как с фразой Вентейля, восхитившей меня в его сонате: по воле моей памяти эта фраза бродила взад-вперед от анданте до финала, пока в один прекрасный день я, с партитурой в руках, не отыскал ее и не пристроил в своем воспоминании на законное место, в скерцо; так и родинка, помнившаяся мне то на щеке, то на подбородке, наконец навсегда уместилась на верхней губе, под носом. Вот так мы с удивлением обнаруживаем стихотворную строчку, знакомую наизусть, в стихотворении, в котором даже и не думали ее встретить.
В этот миг, словно нарочно, на фоне моря, поражая разнообразием форм, привольно явил себя весь пышный декоративный ансамбль, всё прекрасное шествие золотисто-розовых, подрумяненных солнцем и морем дев: это появился развернутым строем отряд подруг Альбертины; все длинноногие, гибкие, но такие разные, они параллельно нам выступали в нашу сторону, держась ближе к морю. Я спросил у Альбертины, нельзя ли немного с ней пройтись. К сожалению, она ограничилась тем, что просто помахала подругам рукой. «Но ваши подруги обидятся, если вы их бросите», — сказал я в надежде, что мы пойдем гулять все вместе. Тут к нам подошел молодой человек с правильными чертами лица, в руке у него были ракетки. Это был тот самый игрок в баккара, чьи сумасбродства возмущали жену председателя. Он поздоровался с Альбертиной холодным, бесстрастным тоном, явно считая это верхом утонченности. «Вы с гольфа, Октав? — спросила она. — Хорошо поиграли? Вы были в форме?» — «Отвратительно, продулся вдрызг», — отвечал он. «Андре тоже там была?» — «Да, набрала семьдесят семь очков». — «Да это же рекорд!» — «Я вчера выбил восемьдесят два». Он был сыном очень богатого промышленника, которому предстояло играть весьма важную роль в организации ближайшей Всемирной выставки [272] … в организации ближайшей Всемирной выставки . — Речь, по мнению французских комментаторов, о Всемирной выставке 1900 г.
. Меня поразило, насколько этот юнец и другие, весьма немногие, молодые люди, водившие дружбу с этими девушками, разбирались во всем, что относилось к одежде, манере носить эту одежду, сигарам, английским напиткам, лошадям, разбирались до мельчайших тонкостей и судили об этом с горделивой непогрешимостью, которая была сродни безмолвной скромности ученого, — но при этом насколько они были неразвиты в смысле умственной культуры. Октав не ведал сомнений, когда нужно было сделать выбор между смокингом и пижамой, но не имел понятия, в каком случае можно употребить такое-то слово, а в каком нельзя, и даже не подозревал о простейших правилах французского языка. Вероятно, та же несогласованность между двумя культурами была присуща и его отцу, председателю Синдиката бальбекских домовладельцев, потому что в открытом письме избирателям, которое он недавно велел развесить по городу, говорилось: «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить, он не захотел выслушать мои справедливые нарекания». В казино Октав получал призы во всех соревнованиях по бостону, танго и т. д., что могло ему бы помочь, если бы он захотел, найти прекрасную партию в курортной среде, где не в переносном, а в буквальном смысле девушки выходят замуж за партнеров по танцам. Он закурил сигару и сказал Альбертине: «Вы позволите?» — таким тоном, каким просят разрешения докончить начатую работу. Потому что он «не мог ни минуты побыть без дела», хотя не делал ничего и никогда. Но полное безделье дает в конце концов и в духовном отношении, и в телесном, мышечном, те же результаты, что и неумеренный труд: в конце концов постоянное умственное ничтожество, в котором он пребывал (хотя трудно было в это поверить, глядя на его мечтательное лицо), привело к тому, что, несмотря на внешнюю невозмутимость, по ночам ему, словно изнуренному мыслителю, не давали уснуть бесплодные попытки думать.
Я наадеялся, что у меня появится больше поводов видеться с девушками, если я буду знать их друзей, и готов был уже попросить, чтобы меня ему представили. Я поделился этим с Альбертиной, когда он удалился со словами: «Продулся вдрызг». Мне хотелось внушить ей идею познакомить нас в следующий раз. «О чем вы, — воскликнула она, — я не могу представлять вас какому-то жиголо! Здесь так и кишат жиголо. Но вам не о чем с ними говорить. Этот тип прекрасно играет в гольф, и всё, точка. Я их всех насквозь вижу, он вам не компания». — «Ваши подруги обидятся, что вы их так бросаете», — сказал я ей в надежде, что она мне предложит подойти к ним вместе. «Да нет, я им совершенно не нужна». Навстречу нам шел Блок, он улыбнулся мне с тонким намеком и, озадаченный присутствием Альбертины, которую не знал или во всяком случае знал только «в лицо», глянул на нее хмуро и четким движением уронил голову в поклоне, коснувшись воротничка подбородком. «Как зовут этого дикаря? — спросила Альбертина. — Не понимаю, почему он со мной здоровается, мы с ним незнакомы. Я ему и не ответила». Я не успел ничего ей сказать, потому что он подошел прямо к нам со словами: «Прости, что вмешиваюсь, но я хотел тебя предупредить, что завтра еду в Донсьер. Больше ждать не могу, это будет невежливо, и уж не знаю, что обо мне должен думать Сен-Лу-ан-Бре. Сообщаю тебе, что сяду на двухчасовой поезд. К твоим услугам». Но я уже думал только о том, как бы вновь встретиться с Альбертиной и попытаться познакомиться с ее подругами, Донсьер представлялся мне краем земли: ведь они туда не поедут, а когда я вернусь, они уже уйдут с пляжа. Я сказал Блоку, что никак не могу поехать. ‹‹Что ж, поеду один. Повторю Сен-Лу, чтобы потрафить его клерикализму, смешные александрины сьёра Аруэ:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу