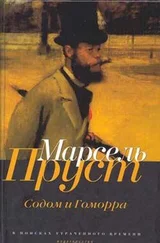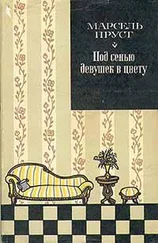Наконец он последний раз прикоснулся кистью к цветам; я потерял какое-то время, заглядевшись на них, но заслуги моей в том не было: я знал, что девушек уже нет на пляже; но я готов был поверить, что они еще там и я их упущу из-за этих потерянных минут, а все-таки смотрел, решив про себя, что Эльстира больше интересуют цветы, чем моя встреча с девушками. Что ни говори, бабушкин характер, полная противоположность моему безграничному эгоизму, как-то на мне отражался. Когда кому-нибудь, кто был мне безразличен, но кого я всегда притворно любил или уважал, грозило простое неудовольствие, пускай даже надо мной самим в это же время нависла большая опасность, я ничего не мог с собой поделать: я сочувствовал его огорчению, словно это было нечто серьезное, а от своей опасности отмахивался, потому что мне казалось, что тому, другому человеку наши обстоятельства представляются именно в таких пропорциях. И уж если называть вещи своими именами, я шел даже дальше и не только не убивался из-за опасности, мне угрожавшей, но прямо летел ей навстречу — и тут же, наоборот, делал всё, что мог, чтобы уберечь от неприятностей другого, даже рискуя навлечь их на себя самого. Тому есть несколько причин, причем все они не к моей чести. Первая причина вот какая: поскольку я только и делал, что рассуждал, мне казалось, что жизнь становится мне особенно дорога всякий раз, когда меня вдруг начинают преследовать моральные проблемы или даже просто приступы тревоги нервного свойства, иногда настолько ребяческие, что я не посмел бы о них упомянуть; и если в тот момент происходило нечто непредвиденное, чреватое для меня смертельной угрозой, эта новая забота представлялась мне такой легкой по сравнению с другими, что я воспринимал ее с чувством облегчения и даже, пожалуй, весело. Так я, один из самых трусливых людей на свете, испытал ощущение, которое самому мне, когда я об этом размышлял, казалось непостижимым и совершенно чуждым моей природе, — упоение опасностью. И даже если в момент полного спокойствия и счастья я очутился перед лицом смертельной опасности — я не смогу, случись рядом со мной другой человек, не попытаться его уберечь и не выбрать для себя самого более опасное место. После того как весьма долгий опыт показал мне, что я всегда поступал таким образом, я, к своему великому стыду, обнаружил, что, в противоположность тому, что я всегда думал и утверждал, я очень чувствителен к мнению других людей. Однако такое потаенное самолюбие не имеет ничего общего ни с суетностью, ни с гордыней. Всё, что относится к тому или другому, не доставило бы мне никакой радости, и я бы воздержался от таких поступков. Но я никогда не мог устоять перед удовольствием показать людям, что я больше стараюсь отвести смертельную угрозу от них, чем от себя самого — особенно если мне удалось полностью скрыть от этих людей свои скромные преимущества, которые могли бы внушить им менее пренебрежительное ко мне отношение. Поскольку в этом случае мною движет самолюбие, а не добродетель, мне кажется совершенно естественным, что другие люди в любых обстоятельствах поступают по-другому. Я далек от того, чтобы их за это осуждать, хотя, наверно, осудил бы, если бы мною руководило чувство долга: я бы считал тогда, что оно обязательно для них так же, как для меня. Но я, наоборот, думаю, что они поступают вполне благоразумно, заботясь о сохранении своей жизни, тем более что все равно не могут мне помешать пренебрегать моей собственной, что с моей стороны совершенно бессмысленно и даже преступно, ведь я уже понимаю, что жизнь многих людей, которых я, когда падает бомба, готов прикрыть грудью, имеет меньше цены, чем моя. Впрочем, в день, когда я пришел в гости к Эльстиру, мне было еще далеко до тех времен, когда я осознаю эту разницу в ценностях, и ни о какой опасности еще речи не было, а то, что я старался не показать виду, что радость, которой я так пламенно желал, для меня важнее, чем неоконченная работа акварелиста, было простым предвестьем всех бед, которыми угрожало мне мое самолюбие. Наконец акварель была дописана. А когда мы вышли, я обнаружил, что еще не так поздно, как мне казалось, ведь дни стояли по-прежнему длинные; мы пошли на мол. Какие хитрости пускал я в ход, чтобы задержать Эльстира там, где, по моему разумению, еще могли пройти девушки! Указывая на скалы, высившиеся перед нами, я без конца наводил его на разговор о них в надежде, что он забудет о времени и побудет на море дольше. Мне казалось, что мы скорее выследим стайку, если дойдем до конца пляжа. «Мне бы хотелось немного ближе подойти с вами к этим скалам, — сказал я Эльстиру, сообразив, что одна из девушек часто гуляла в той стороне. — А пока мы идем, не могли бы вы рассказать мне про Карктюи?» — добавил я, не понимая, что новизну, с такой силой запечатленную у Эльстира в картине «Порт в Карктюи», создало ви́дение художника; дело было вовсе не в особых достоинствах этого пляжа. «С тех пор как я увидел вашу картину, мне хочется увидеть это место больше всего, не считая разве что Пуэнт-дю-Ра [266] Пуэнт-дю-Ра — мыс на берегу Атлантического океана, между началом Ла-Манша и Бискайским заливом в Бретани.
, но до него отсюда порядочное расстояние». — «Даже если бы это было поближе, я бы все равно скорее посоветовал вам Карктюи, — отвечал Эльстир. — Пуэнт-дю-Ра великолепен, но в конце концов это, как вы знаете, всего лишь гряда огромных нормандских или бретонских скал. Карктюи дело другое — эти валуны, этот плоский пляж. Не знаю во Франции ничего похожего, мне это место скорее напоминает Флориду. Очень любопытное и вдобавок совсем дикое. Оно расположено между Клитуром и Неомом [267] Клитур — деревня в Нормандии, в наши дни насчитывающая всего 204 жителя. Неом , судя по всему, место вымышленное.
, а вы же знаете, как пустынны эти прибрежные места; полоса пляжей восхитительна. Здешний пляж тоже неплох, но там — сколько радости, какая благодать!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу