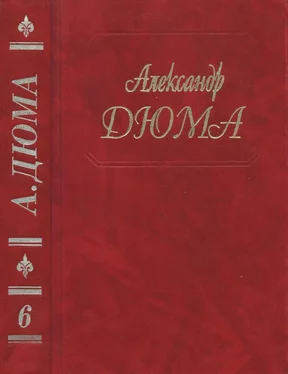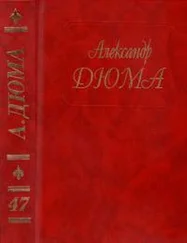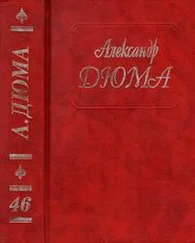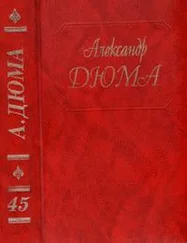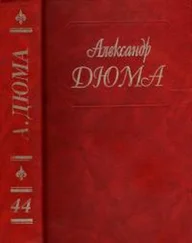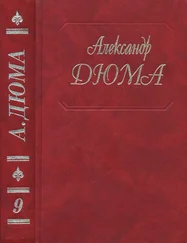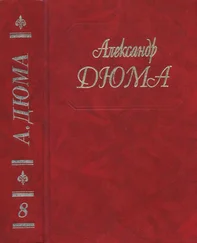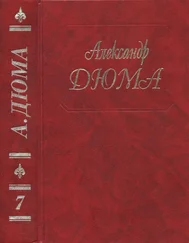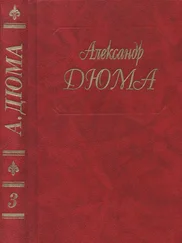— Вы решительно не понимаете меня, брат, — ответил, покачав головой, дю Бушаж, — или, вернее, ваш великодушный ум не хочет меня понять. Я хочу не такого места, где весело, не такой обители, где приятно живется, — я хочу строгого заточения, мрака, смерти. Я хочу принять на себя обеты, такие обеты, которые оставили бы мне одно лишь развлечение — рыть себе могилу, читать бесконечную молитву.
Кардинал нахмурился и встал.
— Да, — сказал он, — я тебя отлично понял, однако старался отвратить от безумного решения, не прибегая к нравоучениям. Но ты вынуждаешь меня говорить по-другому. Так слушай.
— Ах, брат, — сказал Анри безнадежным тоном, — не пытайтесь убедить меня, это невозможно.
— Я буду говорить прежде всего во имя Божие, во имя Бога, которого ты оскорбляешь, утверждая, что Он внушил тебе это мрачное решение: Бог не приемлет безрассудных жертв. Ты слаб, ты приходишь в отчаяние от первых же горестей — так может ли Бог принять ту, почти недостойную Его жертву, которую ты стремишься Ему принести?
Анри сделал нетерпеливое движение.
— Нет, я больше на стану щадить тебя, брат, ведь ты-то никого из нас не щадишь, — продолжал кардинал. — Ты забыл о горе, которое причинишь и нашему старшему брату, и мне…
— Простите монсеньор, — прервал Анри, и лицо его покраснело, — разве служение Богу дело настолько мрачное и бесчестное, что целая семья облекается из-за этого в траур? А вы, брат мой, вы сами, чье изображение я вижу в этой комнате, украшенное золотом, алмазами, пурпуром, разве вы не честь и не радость для нашего дома, хотя избрали служение владыке Небесному, как мой старший брат служит владыкам земным?
— Дитя! Дитя! — с досадой вскричал кардинал. — И вправду можно подумать, что ты рехнулся. Как! Ты сравниваешь мой дом с монастырем? Сотню моих слуг, моих егерей, моих дворян и мою охрану с кельей да веником — единственным оружием и единственным богатством монастыря? Да ты обезумел! Разве ты не сказал сейчас, что отвергаешь все эти излишества, которые мне необходимы, — картины, драгоценные сосуды, роскошь и шум? Разве ты, подобно мне, испытываешь желание и надеешься увенчать себя тиарой святого Петра? Вот это карьера, Анри, к этому стремятся, за это борются, этим живут. Но ты! Ты ведь жаждешь мотыги землекопа, лопаты монаха, ямы могильщика. Ты отвергаешь воздух, радость, надежду. И все это — мне просто стыдно за тебя, мужчину, — лишь потому, что ты полюбил женщину, которая тебя не любит! Право же, Анри, ты позоришь наш род!
— Брат! — вскричал молодой человек, бледный, с мрачным огнем в глазах, — может быть, вы предпочли бы, чтобы я размозжил себе череп выстрелом из пистолета или же воспользовался своим почетным правом носить шпагу и пронзил себе грудь? Видит Бог, монсеньор, если вы, кардинал, дадите мне отпущение этого смертного греха, то дело будет сделано в один миг, вы даже не успеете додумать чудовищной, недостойной мысли, что я позорю наш род — чего, слава Богу, никогда не сделает ни один Жуаез.
— Ну, ну, Анри! — сказал кардинал, привлекая к себе брата и крепко обнимая его. — Ну, дорогой наш, всеми любимый мальчик, забудь мои слова, прости тех, кому ты дорог. Выслушай меня, я умоляю тебя как эгоист: у всех у нас на редкость счастливая доля — кто удовлетворил честолюбие, кого Господь благословил разнообразными дарами, украшающими нашу жизнь. Так не отравляй же, молю тебя, Анри, счастье всей семьи смертельным ядом своего отречения от земных благ. Подумай о слезах отца, подумай, что все мы будем носить на челе печать траура. Заклинаю тебя, Анри: монастырь не для тебя. Я не стану говорить, что ты там умрешь: ведь ты, несчастный, ответишь мне на это лишь улыбкой, значение которой — увы! — будет слишком ясным. Нет, я скажу тебе, что монастырь хуже могилы: в могиле гаснет только жизнь, в монастыре — разум. В монастыре чело не поднимается к небу, а никнет к земле. Сырость низких сводов постепенно проникает в кровь, доходит до мозга костей, и затворник превращается в еще одну гранитную статую — а их у него в монастыре и без того достаточно. Брат мой, берегись: у нас впереди совсем не много лет, у нас всего одна молодость. Ты не заметишь как пройдут твои юные годы, ибо тобой владеет жестокая скорбь. Но в тридцать лет ты будешь мужчиной, придет пора зрелости, остатки скорби твоей развеются, и ты захочешь возвратиться к жизни, а будет уже поздно: ты станешь мрачным, непривлекательным, болезненным, в сердце у тебя погаснет всякое пламя, взор уже не будет метать искр. Те, к кому тебя повлечет, будут бежать от тебя, как от гроба, в черную глубь которого никто не захочет бросить взгляда. Анри, я говорю с тобой как друг, голос мой — голос мудрости. Послушайся меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу